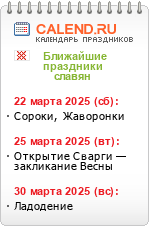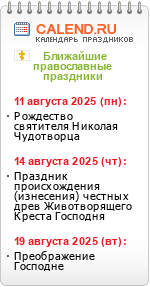| –Т–∞–ґ–љ—Л–µ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П! |
|---|
|
–Ь–Ђ –Ґ–Х–Я–Х–†–ђ –Э–Р –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г–є—В–µ—Б—М —З—В–Њ–±—Л —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –Ґ–†–Х–С–£–Ѓ–Ґ–°–ѓ –Ь–Ю–Ф–Х–†–Р–Ґ–Ю–†–Ђ –Ч–Ф–Х–°–ђ! –Ю–С–£–І–Х–Э–Ш–Х viewforum.php?f=1447 –У–†–£–Я–Я–Р –Ґ–Х–Ы–Х–У–†–Р–Ь–Ь –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г–є—В–µ—Б—М —З—В–Њ–±—Л —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г–є—В–µ—Б—М —З—В–Њ–±—Л —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б—Б—Л–ї–Ї—Г
|
–•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є
–°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є: 3
• –°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ 1 –Є–Ј 1
- –°–Ш–Ы–ђ–§
- –Ф–Ш–Р–У–Э–Ю–°–Ґ
-

- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є: 965
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: 19 –Љ–∞—А 2018, 13:53
–•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є
–Ф–µ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, —Б–∞—В–∞–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —Г—Б—В—А–∞—И–∞—О—Й–Є–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є –Љ–Њ¬≠—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П, –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ¬≠–є–љ–Њ–є, вАФ –≤—Б—С —Н—В–Њ –љ–µ –µ–і–Є–љ–Њ–ґ–і—Л —Б—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —Б —Н—Б—Е–∞—В–Њ¬≠–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П–Љ–Є, –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –Ч–∞–≤–µ¬≠—В–µ. –Ъ–∞–Ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, –Њ–љ–Є —Б–Њ–њ—А—П–ґ–µ–љ—Л —Б –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞:
¬Ђ–≠—В–Њ вАФ –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В, –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞—О—Й–Є–є –Ю—В—Ж–∞ –Є –°—Л–љ–∞¬ї. ¬Ђ–Р –≤—Б—П–Ї–Є–є –і—Г—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г–µ—В –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞,... —Н—В–Њ –і—Г—Е –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–і—С—В... [1]¬ї –Р–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—Б–Є—Б –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ–Љ —Г—Б—В—А–∞—И–∞—О—Й–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і—Г—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≤—А–µ–Љ—С–љ, –њ–µ—А–µ–і –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ –Р–≥–љ—Ж–∞. –≠—В–Њ —П—Б–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ anima christiana (–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –і—Г—И–∞ (–ї–∞—В.) - –Я—А–Є–Љ. –њ–µ—А.) —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В —В–≤—С—А–і—Л–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В¬≠–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤—А–∞–≥–∞, –љ–Њ –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—А–∞–≥ —Н—В–Њ—В –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —Г–Ј—Г—А–њ–Є—А—Г–µ—В –≤–ї–∞—Б—В—М.
–І–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —П –≤–і—А—Г–≥ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—О –Ј–і–µ—Б—М –Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Є –µ–≥–Њ –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–µ вАФ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–µ? –†–∞—Б—Б—Г–ґ¬≠–і–µ–љ–Є—П –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і—П—В –љ–∞—Б –Ї –•—А–Є—Б—В—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Б—С –µ—Й—С –ґ–Є–≤—Л–Љ –Љ–Є—Д–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Ю–љ вАФ –љ–∞—И –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞—О—Й–Є–є –Љ–Є—Д –Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Р–і–∞–Љ–µ. –Ю–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Ж–µ–љ—В—А —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ь–∞–љ–і–∞–ї—Л, –Њ–љ вАФ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Ґ–µ—В—А–∞–Љ–Њ—А—Д–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М —З–µ—В—Л—А—С—Е —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—Б—В–Њ–≤, —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї—П—О—Й–Є—Е—Б—П —З–µ—В—Л¬≠—А—С–Љ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ –µ–≥–Њ —В—А–Њ–љ–∞. –Ю–љ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–µ—В –≤ –љ–∞—Б, –Љ—Л вАФ –≤ –љ—С–Љ. –Х–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Є–µ вАФ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–µ–є—И–∞—П –ґ–µ–Љ—З—Г–ґ–Є–љ–∞, –Ј–∞—А—Л—В–Њ–µ –≤ –њ–Њ–ї–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–µ, –≥–Њ—А—З–Є—З–љ–Њ–µ –Ј–µ—А–љ–Њ, –Є–Ј –Ї–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—А–∞—Б—В–µ—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –і—А–µ–≤–Њ, –Є –Њ–љ –ґ–µ вАФ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–є –≥—А–∞–і [2]. –Ъ–∞–Ї –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –љ–∞—Б, —В–∞–Ї –ґ–µ –≤ –љ–∞—Б –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Є –µ–≥–Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ [3].
–Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ—Л—Е –Ј–і–µ—Б—М –Њ–±—Й–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б—Б—Л–ї–Њ–Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —А–µ–њ—А–µ–Ј–µ–љ—В—Г–µ—В –∞—А—Е–µ—В–Є–њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є [4]. –Ш–Љ –њ—А–µ–і—Б¬≠—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –ґ–µ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, —Б–ї–∞–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б—Л–љ–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ sine macula peccati, –љ–µ–Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–Љ. –Ю–љ, –Ї–∞–Ї Adam secundus (–Т—В–Њ—А–Њ–є –Р–і–∞–Љ (–ї–∞—В.)), —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Р–і–∞–Љ—Г –і–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–њ–∞–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В –µ—Й—С –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є —З–Є—Б—В—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ґ–µ—А—В—Г–ї–ї–Є–∞–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ш—В–∞–Ї, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –љ–∞–і–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, вАФ —В–Њ, —З—В–Њ –і—Г—Е —З–µ–ї–Њ¬≠–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–µ–µ—В —В–µ –ґ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ –Є –С–Њ–≥ –Є–Љ–µ–µ—В, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л –Њ–љ–Є —Г –С–Њ–≥–∞¬ї. –Ю—А–Є–≥–µ–љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —П—Б–љ–µ–µ: imago Dei, –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В¬≠–ї—С–љ–љ—Л–є –≤ –і—Г—И–µ, –∞ –љ–µ –≤ —В–µ–ї–µ [5], –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–∞, ¬Ђ–Є–±–Њ –Љ–Њ—П –і—Г—И–∞ вАФ –љ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞, –љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –љ–∞–њ–Њ–і¬≠–Њ–±–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї [6]. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –ґ–µ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ¬≠–љ—Л, –µ—Б—В—М –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є [7], –њ–Њ —З—М–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–Є—О —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ –љ–∞—И –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, вАФ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–є, –±–µ—Б—В–µ¬≠–ї–µ—Б–љ—Л–є, –љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ—Л–є –Є –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є. –Ю–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ –≤ –љ–∞—Б —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ ¬Ђprudentia, iustitia, moderatio, sapientia et disciplina¬ї (–С–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–Є–µ, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М, —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М, –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –Є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞ (–ї–∞—В.)).
–°–≤—П—В–Њ–є –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –С–Њ–≥–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ–Љ–µ—Й—С–љ–љ—Л–Љ –≤–љ—Г—В—А—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ –µ–Љ—Г —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –С–Њ–≥—Г [8]. –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–µ —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, a anima rationalls (–†–∞–Ј—Г–Љ–љ–∞—П –і—Г—И–∞ (–ї–∞—В.)) –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ—В –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е.
¬Ђ–Ю–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ вАФ –≤–љ—Г—В—А–Є, –љ–µ –≤ —В–µ–ї–µ... —В–∞–Љ, –≥–і–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —В–∞–Љ, –≥–і–µ —А–∞–Ј—Г–Љ, —В–∞–Љ, –≥–і–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤¬≠–і—Л, —В–∞–Љ –С–Њ–≥ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј¬ї. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М —Б–µ–±–µ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г –С–Њ–ґ—М–µ–Љ—Г –љ–Є –≤ —З—С–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є—П: ¬Ђ... –љ–Њ –≥–і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г –С–Њ–≥–∞, —В–∞–Љ –Њ–љ –≤–Є–і–Є—В –≤ —Б–µ–±–µ –љ–µ—З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ, —З–µ–Љ –і–∞–і–µ–љ–Њ —Б–Ї–Њ—В—Г¬ї. –Ю—В—Б—О–і–∞ —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –С–Њ–ґ–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Є–і–µ–љ—В–Є—З–µ–љ anima rationalis. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –µ—Б—В—М –≤—Л—Б—И–Є–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, homo coelistis (–Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (–ї–∞—В.)) –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Р–і–∞–Љ—Г –і–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–њ–∞–і–µ–љ–Є—П, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ [9], —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–µ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –°–≤—П—В—Л–Љ –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–Њ–Љ. ¬Ђ–°–ї–Њ–≤–Њ, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ, вАФ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –±—Л –≤—Б—О —Ж–µ–ї–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –і—Г—И—Г, –Є —В–µ–ї–Њ. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ —Е–Њ—З–µ—И—М, —З—В–Њ–±—Л —П –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —В–Њ—З–љ–µ–µ - –Є–±–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–Ї–Њ—В –Є–Љ–µ–µ—В –і—Г—И—Г –Є —В–µ–ї–Њ вАФ —В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –≥–Њ–≤–Њ—А—О ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–ї–Њ—В—М¬ї, —П –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–±–ї—С–Ї—Б—П —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ¬≠—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г¬ї.
–Ю–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –љ–µ –±—Л–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ –≥—А–µ—Е–Њ–њ–∞¬≠–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –±—Л–ї –ї–Є—И—М –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і—С–љ –Є –Є—Б–Ї–∞–ґ—С–љ (¬Ђ–і–µ¬≠—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ¬ї), –Є –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –С–Њ–ґ—М–µ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М—О. –°—Д–µ—А–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П descensus ad inferios, —Б–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –і—Г—И–Є –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ –∞–і, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –і–µ–ї–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–Њ–Љ –Ј–і–µ—Б—М —Б–ї—Г–ґ–Є—В –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є—П –Ї–Њ–ї¬≠–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–∞—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ¬≠–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є. –°–≤—П—В–Њ–є –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–∞—И–µ–є —Ж–µ–ї—М—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –љ–∞—И–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ –љ–∞—И–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ –µ—Б—В—М –•—А–Є—Б—В–Њ—Б¬ї, –Є–±–Њ –Њ–љ –µ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є. –Я–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –µ–≥–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В ¬Ђ–¶–∞—А—С–Љ¬ї. –Х–≥–Њ –љ–µ–≤–µ—Б—В–Њ–є (sponsa) –≤—Л¬≠—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –і—Г—И–∞, ¬Ђ–≤ —Б–Њ–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—С–љ–љ–∞—П —Б–Њ –°–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б—Г—В—М –і–≤–∞ –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—В–Є¬ї, –Є —Н—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–Љ—Г –±—А–∞–Ї—Г –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –¶–µ—А–Ї–≤–Є [10]. –Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б –њ—А–Њ–і–Њ–ї¬≠–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–є –Є–µ—А–Њ–≥–∞–Љ–Є–Є –≤ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–∞—Е –Є —А–Є—В—Г–∞–ї–∞—Е –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –і–∞–љ–љ—Л–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є–ї—Б—П –≤ –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б¬≠—В–µ–є, –Є–ї–Є ¬Ђ—Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–≤–∞–і—М–±—Г¬ї, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ–Њ–љ—П—В–Є—О lapis philosophorum (–§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М (–ї–∞—В.)), –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–Љ—Г —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є вАФ –њ–Њ–љ—П—В–Є—О —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П.
–Ю–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –Є—Б–Ї–∞–ґ—С–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–≤–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ –≥—А–µ¬≠—Е–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М ¬Ђ–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ¬ї [11] —Б –С–Њ–ґ—М–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –†–Є–Љ–ї., 12,2: ¬Ђ–Ш –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–є—В–µ—Б—М —Б –≤–µ–Ї–Њ–Љ —Б–Є–Љ, –љ–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–є—В–µ—Б—М –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–Љ–∞ –≤–∞—И–µ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤–∞–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤–Њ–ї—П –С–Њ–ґ–Є—П...¬ї –Ю–±—А–∞–Ј—Л —Ж–µ–ї–Њ—Б—В¬≠–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Њ–і—Г—Ж–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б—Е–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —Б —Н—В–Є–Љ–Є ¬Ђ–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ¬≠–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є¬ї –∞–њ—А–Є–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ (–Љ–∞–љ–і–∞–ї—Л) [12]. –Ъ–∞–Ї —П —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞–ї, —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В¬≠–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–Њ—В–ї–Є—З–Є–Љ—Л –Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–≥–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ metamorfouvsqe (¬Ђ–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–є—В–µ—Б—М¬ї) –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–Љ —В–µ–Ї—Б—В–µ –≤—Л—И–µ–њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–є —Ж–Є—В–∞—В—Л ¬Ђ–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ¬ї, (anakainwsiz reformatio) —Г–Љ–∞ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–µ –Ї–∞–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Ї–∞–Ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, –∞–њ–Њ–Ї–∞—В–∞—Б—В–∞—Б–Є—Б. –≠—В–Њ –≤ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—Б–Є—Е–Њ¬≠–ї–Њ–≥–Є–Є –Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞—И–љ–µ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є [13], –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В—М –Є–Ј –њ–Њ–ї—П –Ј—А–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–ї—С–љ¬≠–љ–Њ–µ –љ–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞—Й—С–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–µ—В –µ–≥–Њ –≤ —Д–Є–≥—Г—А–µ –•—А–Є—Б—В–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–Є–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П¬ї –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—С—В¬≠—Б—П –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Б –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Ю–љ–Њ –≤–ї–µ—З—С—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є—О, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ –≤–љ—Г—В—А–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—М–±–Њ–є –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Њ–≤, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е, –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ —В–µ—Е –ґ–µ –њ—А–∞–≤–∞—Е, —З—В–Њ –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ, –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—С—В —Б–≤–Њ—О –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б –Є—Б–Ї—Г—Б¬≠—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Њ–≤, —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —Б–њ–Њ¬≠—Б–Њ–±–љ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ—П—В—М –≤—А–µ–і, –і–∞ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ.
–Э–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–∞—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ¬≠—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П imago Dei, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –•—А–Є—Б—В–µ, –Њ–Ј–љ–∞¬≠—З–∞–ї–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—Й—Г—О —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И—Г—О –≤ —Б–µ–±—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –•—А–Є—Б—В—Г –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Г –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—С—В —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ¬≠–љ–Њ–Љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –µ–≥–Њ —Б—Д–µ—А—Г –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В —В—С–Љ–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ—П–µ–Љ–∞—П –Є –≤—Л–і–µ¬≠–ї—П–µ–Љ–∞—П –≤ —Б–∞—В–∞–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –•–Њ—В—П –Є—Б–Ї–ї—О¬≠—З–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї—Л –Ј–ї–∞ –±—Л–ї–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–Њ —Б–µ–±–µ –Њ—В—З—С—В, –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї —Г—В—А–∞—В–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Є–ї–ї—О–Ј–Њ—А–љ–Њ–є —В–µ–љ–Є, –Є–±–Њ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–∞ privatio boni (–С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В–µ—А–Љ–Є–љ: ¬Ђ–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–±—А–∞¬ї, –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ вАФ ¬Ђ–Њ—В—К—П—В–Є–µ –і–Њ–±—А–∞¬ї (–ї–∞—В). –°–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–∞–ї–µ–µ –Ѓ–љ–≥–Њ–Љ —Ж–Є—В–∞—В —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г ¬Ђ—Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ¬ї –і–Њ–±—А–∞, –∞ –љ–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ, —Е–Њ—В—П –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є –њ—А–Є–љ—П—В –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і ¬Ђ–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–±—А–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—С–љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–Љ. - –Я—А–Є–Љ. –њ–µ—А., —А–µ–і.), –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–∞—П –Ю—А–Є–≥–µ–љ–Њ–Љ, –≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞ –Є, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Я–Њ —Г—З–µ–љ–Є—О –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –Ј–ї–Њ - –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ ¬Ђ—Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞¬ї. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –і–Њ–њ—Г¬≠—Й–µ–љ–Є–µ –≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ: ¬Ђomne bonum a Deo, omne malum ab homine¬ї (¬Ђ–Т—Б–µ –і–Њ–±—А–Њ –Њ—В –С–Њ–≥–∞, –≤—Б–µ –Ј–ї–Њ –Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї (–ї–∞—В.)) –Х—Й–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤—Л–≤–Њ¬≠–і–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Ј–ї–∞ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Ї—В–∞—Е.
–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–µ privatio boni —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ј–∞¬≠–ї–Њ—Б—М, –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –•—А–Є—Б—В–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ј–ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б –љ–Є–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—И—М—Б—П –≤ –њ–ї–∞–љ–µ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —В—А–µ–±—Г–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г–±¬≠—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љo вАФ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–±—А–∞. –У–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є, –љ–∞ —З—М—О –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї –Њ–њ—Л—В –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є, –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ –Ј–ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї, –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е, —З–µ–Љ —Г –Ю—В—Ж–Њ–≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ¬≠–ґ–µ–љ–Є–є –Є—Е —Г—З–µ–љ–Є—П вАФ —В–Њ, —З—В–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б ¬Ђ–Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—В —Б–µ–±—П —В–µ–љ—М¬ї [14]. –Х—Б–ї–Є –Љ—Л –њ—А–Є–і–∞–і–Є–Љ —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–µ –Ј—А–µ–љ–Є—П —В—Г –≤–µ—Б–Њ¬≠–Љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В, —В–Њ –±–µ–Ј —В—А—Г–і–∞ —Г–Ј–љ–∞–µ–Љ –≤ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–µ –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М. –Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Њ–±—А–∞–Ј –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Є—В–∞—В–Њ—А–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –•—А–Є—Б—В–∞. –Ю–љ вАФ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є antimimon pneuma, –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—В–µ–ї—М¬≠–љ—Л–є –і—Г—Е –Ј–ї–∞, –Є–і—Г—Й–Є–є –њ–Њ —Б—В–Њ–њ–∞–Љ –•—А–Є—Б—В–∞, –Ї–∞–Ї —В–µ–љ—М —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞ —В–µ–ї–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї —П—А–Ї–Њ–є, –љ–Њ –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–є —Д–Є–≥—Г—А–µ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, вАФ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ, —Б–ї–µ–і—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Б—В—А–µ¬≠—З–∞—О—В—Б—П –і–∞–ґ–µ –≤ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –Ч–∞–≤–µ—В–µ, вАФ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ–Љ—Г –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є —Г–і–µ–ї—П—В—М –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ.
–Х—Б–ї–Є –Љ—Л –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —Д–Є–≥—Г—А—Г –•—А–Є—Б—В–∞ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥ –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, —В–Њ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —В–µ–љ–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —В—С–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В —Б—Г–і–Є—В—М —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–њ—Л—В–∞, —Б–≤–µ—В –Є —В–µ–љ—М —А–∞—Б–њ¬≠—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ —Б—В–Њ–ї—М —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞—С—В –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –≤ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—А–∞—З–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —Б–∞¬≠–Љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –≤—Л–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –∞ –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ –≤—Л—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –≤ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞—Е –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —З–µ—В–≤–µ—А–Є—Ж–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є –∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ–Є—П–Љ–Є, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М –±–µ–Ј —В–µ–љ–Є, –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —Б–≤–µ—В–ї–Њ–є —Д–Є–≥—Г¬≠—А–Њ–є, –Є–±–Њ –±–µ–Ј –љ–µ—С —Н—В–∞ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –ї–Є—И–µ–љ–∞ –њ–ї–Њ—В–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–љ—Г—В—А–Є —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–µ—В –Є —В–µ–љ—М –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ¬≠—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ –±–µ–Ј–љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—З–ї–µ–љ—С–љ –љ–∞ –і–≤–µ –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –≤–µ–і—С—В –Ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г вАФ –±–µ—Б–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—О —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В –њ—Л–ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і—С–љ–љ—Л—Е.
–Ф–ї—П –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ¬≠—Б—В–≤—Г, –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–Љ –Њ—А–µ—И–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ–∞ вАФ –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–≤–µ—В–љ—Л–є —Г–і–∞—А –і—М—П–≤–Њ–ї–∞, —Б–њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –Т–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ; –Є–±–Њ –і—М—П–≤–Њ–ї —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —А–Њ—Б—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –С–Њ–≥–∞, –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ¬≠–≤–µ–љ–Є—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –µ—Й—С –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ъ–љ–Є–≥–Є –Ш–Њ–≤–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б—Л–љ–Њ–≤ –С–Њ–ґ—М–Є—Е –Є —Д–∞–Љ–Є–ї—М—П—А–љ–Є—З–∞–ї —Б –ѓ—Е–≤–µ [15]. –° –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —П—Б–µ–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ —Б—В–Њ–ї—М –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ¬≠–љ–∞ –Є –љ–µ–Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ–љ–∞, —З—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–µ–є –≤—Б—С –њ—А–Њ—З–µ–µ —В–µ–Љ–љ–µ–µ—В. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Њ–љ–∞ –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–∞ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ —Б–Њ–≤–µ—А¬≠—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –і–ї—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—П. –≠—В–∞ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞¬≠—О—Й–∞—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є —Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ –і–≤—Г—Е —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П—Е –С–Њ–≥–∞, —Б—В–∞—А—И–Є–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–Љ—П –°–∞—В–∞–љ–∞–Є–ї [16]. –Я—А–Є—Е–Њ–і –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞ вАФ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ, –∞ –љ–µ–њ—А–µ–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ, –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –љ–µ –≤–µ–і–∞–ї –∞–≤—В–Њ—А –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤—Л—Е –Я–Њ—Б¬≠–ї–∞–љ–Є–є; —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —Н—В–Њ—В –Ј–∞–Ї–Њ–љ –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г –љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й—Г—О —Н–љ–∞–љ—В–Є–Њ–і—А–Њ–Љ–Є—О. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї —В–∞–Ї, –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Ј–љ–∞–ї –Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, —Е–Њ—В—П –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –±—Л—В—М —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ –љ–µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –µ–Љ—Г –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї—А–Њ¬≠–≤–µ–љ–Є–µ–Љ. –Т —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤–ї–µ—З—С—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –∞–Ї—Ж–µ–љ—В—Г–∞—Ж–Є—О –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ї –љ–µ–Љ—Г, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—П –љ–∞–њ—А—П–ґ—С–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–µ—А—Е–Њ–Љ –Є –љ–Є–Ј–Њ–Љ.
–≠—В–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ—Л –і–µ–ї–∞–µ–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є —Б—Д–µ—А—Л —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–Є. –Э–Є–Ї—В–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –µ—Й–µ –љ–µ —Г—З—С–ї —Д–∞–Ї—В–Њ—А —Д–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–µ–і—А–∞—Б–њ–Њ¬≠–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ–љ–Њ–є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Ї –Є–љ–≤–µ—А—Б–Є–Є –µ—С –і—Г—Е–∞ вАФ –љ–µ –њ–Њ –љ–µ—П—Б–љ–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ. –Ш–і–µ–∞–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В—А–µ–Љ—П—Й–µ–є—Б—П –і–Њ—Б—В–Є—З—М –≤—Л—Б–Њ—В, –Њ–±—А–µ—З—С–љ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–Њ —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞¬≠–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ¬≠—А–Є—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є—О –Є –Њ–≤–ї–∞–і–µ—В—М –Љ–Є—А–Њ–Љ. –Я–µ—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤¬≠–ї–µ–љ–Є–Є —Б—В–∞–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –†–µ–љ–µ—Б—Б–∞–љ—Б–∞. –Ф–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В ¬Ђ–≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ¬ї –Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –і—Г—Е —Н—В–Њ—В —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є; –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П –і—Г—Е –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—Г—Е —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В¬≠–≤–∞ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–≤–∞–ї —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –Ј–∞¬≠–Љ–µ–љ—П—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Г—О —Ж–µ–ї—М вАФ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є, –∞ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М –≥–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П вАФ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є (–≤–Ї–ї—О—З–∞—П –њ—Г—В–µ¬≠—И–µ—Б—В–≤–Є—П –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—О –Љ–Є—А–∞ –Є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л). –Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ, –≤—Л–Ј–≤–∞–≤—И–µ–µ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О, –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –Љ–Є—А–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ ¬Ђ–∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є¬ї, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О¬≠—Й–µ–Љ —А–∞–љ–љ–µ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤—А–µ–Љ—С–љ¬ї.
–Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –і–Њ —В–Њ–≥–Њ —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ —Б—В–∞–ї–Є —П–≤–љ—Л–Љ–Є, –Є–ї–Є –ґ–µ –Љ–∞—П—В–љ–Є–Ї, —А–µ–Ј–Ї–Њ –Ї–∞—З–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Њ–і–љ—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, —В–µ–њ–µ—А—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є¬≠—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –У–Њ–≤–Њ¬≠—А—П—В, –љ–Є –Њ–і–љ–Њ –і–µ—А–µ–≤–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ—А–∞—Б—В–Є –і–Њ —А–∞—П, –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ–Є –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В –∞–і–∞. –Ф–≤—Г–Ј–љ–∞—З–љ–Њ—Б—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Љ–∞—П—В–љ–Є–Ї–∞. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–µ –Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Б –°–∞—В–∞–љ–Њ–є, –Т—А–∞–≥–Њ–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤¬≠–ї—П—О—Й–Є–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –њ–Њ–ї—О—Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –љ–∞–њ—А—П–ґ—С–љ–љ–Њ—Б¬≠—В–Є, –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞–µ–Љ—Л–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞, –≤–љ—Г—В—А–Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –њ—Б–Є—Е–µ, —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞. –°–∞—В–∞–љ–∞ –µ—Б—В—М ¬Ђmisterium iniquitatis¬ї (¬Ђ–Ґ–∞–є–љ–∞ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є¬ї (–ї–∞—В.)), —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–є ¬Ђsol institiae¬ї (¬Ђ–°–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є¬ї (–ї–∞—В.)), —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ—А–∞–Ј–ї—Г—З–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —В–µ–љ—М —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–≤–µ—В—Г –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ –њ—Г—В—П—Е; –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≠–±–Є–Њ–љ–Є—В—Л [17] –Є –≠–≤—Е–Є—В—Л [18] —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ –±—А–∞—В –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –≤–µ—А–љ—Л–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –±—А–∞—В—Г. –Ю–±–∞ –Њ–љ–Є –±–Њ—А—О—В—Б—П –Ј–∞ —Ж–∞—А—Б—В¬≠–≤–Њ: –Њ–і–Є–љ вАФ –Ј–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ, –≤—В–Њ—А–Њ–є вАФ –Ј–∞ ¬Ђprincipatus huius mundi¬ї (¬Ђ–У–ї–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ —Б–µ–Љ¬ї (–ї–∞—В.)). –Ь—Л —Б–ї—Л—И–Є–Љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ ¬Ђ—В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В¬≠–љ–µ–Љ¬ї —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ –Є ¬Ђ–њ—А–Є—Е–Њ–і–µ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞¬ї, –Ј–≤—Г—З–∞—Й–Є–µ —В–∞–Ї, –±—Г–і—В–Њ –±—Л –і–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –њ–Њ–і–µ–ї–Є–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –Љ–Є—А—Л –Є —Н–њ–Њ—Е–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Б—В—А–µ—З–∞ —Б –°–∞—В–∞–љ–Њ–є –±—Л–ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –і–µ–ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞—П: –Њ–љ–∞ вАФ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Ј–≤–µ–љ–Њ –≤ —Ж–µ–њ–Є.
–Ъ–∞–Ї –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –±–Њ–≥–Њ–≤ –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ –∞–љ–Є–Љ—Л/–∞–љ–Є–Љ—Г—Б–∞, —В–∞–Ї –Є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –і–ї—П –љ–∞—Б вАФ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–∞—П –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –Є –µ—С –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —А–µ—З—М –Є–і—С—В –љ–µ –Њ–± –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –Њ —З—С–Љ-—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ per se, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ –Њ—Й—Г—В–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –µ—С —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ. –Ш –≤—Б—С –ґ–µ, —Е–Њ—В—П –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л –•—А–Є—Б—В–∞ (–µ–і–Є–љ–Њ—Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М —Б –Ю—В—Ж–Њ–Љ, —Б–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М –µ–Љ—Г –Є —Б—Л–љ–Њ–≤–љ–Є–µ —Б –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–µ –Ј–∞—З–∞—В–Є–µ, —А–∞—Б–њ—П—В–Є–µ, –Р–≥–љ–µ—Ж, –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –Љ–µ–ґ –і–≤—Г—Е –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Х–і–Є–љ–Њ–µ, —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ, –Є —В.–њ.) –і–µ–ї–∞—О—В –µ–≥–Њ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–і –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г–≥–ї–Њ–Љ –Ј—А–µ–љ–Є—П –Њ–љ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г¬≠—О—Й–Є–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞. –Т—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—П–≤¬≠–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є вАФ —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞—Ж–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ—С–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ –µ—С —В–µ–Љ–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В. –Ю–±–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л —Б —В–µ–Љ –ґ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ —Г –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, —А–∞—Б–њ—П—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –љ–∞–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –≤–µ–і—С—В –Ї–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О¬≠—Й–µ–Љ—Г –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ —А–∞—Б–њ—П—В–Є–µ —Н–≥–Њ, –µ–≥–Њ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Ј–≤–µ—И–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є [19]. –Х—Б—В–µ—Б¬≠—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є –Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —Н–≥–Њ, –Є–±–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –±—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ —Д–Њ–Ї—Г—Б —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞¬≠—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–∞ –±—Л –њ–Њ–ї–љ–∞—П –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–Є–µ —Н–≥–Њ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В –ї–Є—И—М —В–µ –≤—Л—Б—И–Є–µ, —Н–Ї—Б—В—А–µ¬≠–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ –і–Њ–ї–≥–∞. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Н–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–Њ–ї–Є —Б—В—А–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —А–µ—И–∞—О—Й–µ–≥–Њ, –љ–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П —А–µ—И–µ–љ–Є—О. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –Ј–∞ ¬Ђ–≥–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤—Л—Б—И–µ–є –Є –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О, –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Ї–Њ–µ–є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Л. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –±—Г–і–µ—В —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–≤–µ—В–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –µ–≥–Њ —Б —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ—Б—В—М—О, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –љ–∞—И–Є —Б–ї–∞–±—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є, вАФ –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б вАФ –ї–Є—И—С–љ –µ—С –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —В–µ–љ–Є.
–Я—А–Є—З–Є–љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–µ "Summum –Т–Њ–њ–Є—В". –Ш—А–Є–љ–µ–є, –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞—П –≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Њ–≤, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Є–Ј –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П ¬Ђ—Б–≤–µ—В–∞ –Є—Е –Ю—В—Ж–∞¬ї –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –і–µ–ї–∞—В—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Н—В–Њ—В —Б–≤–µ—В ¬Ђ–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—М –Є –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —Б–Њ–±–Њ–є –і–∞–ґ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–µ–≥–Њ¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М —В–µ–љ—М –Є –њ—Г—Б—В–Њ—В—Г. –Х–Љ—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–Ј–Њ—А–љ—Л–Љ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –Ї–ї–µ–≤–µ—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –њ—А–µ–і–њ–Њ¬≠–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –њ–ї–µ—А–Њ–Љ—Л —Б–≤–µ—В–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М ¬Ђ—В—С–Љ–љ–∞—П –Є –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞¬ї. –Ф–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞ –љ–Є –С–Њ–≥, –љ–Є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–Њ–Љ; –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ–±–ї–∞–і–∞—В—М –µ–і–Є–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ґ–∞–Ї –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞, —В–∞–Ї (–Ј–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є—Б–Ї–ї—О¬≠—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є) –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ–∞–ї–Њ –Ї–Њ–Љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–і–µ—П–љ–љ—Л–є —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—В–Є–≤–љ—Л–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В –њ–Њ–і–≤–Є–≥–љ—Г–ї –µ—Й—С –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –љ–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞, –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–≤—И–µ–µ –µ–≥–Њ –±—Л—В—М "Summum –Т–Њ–њ–Є—В". –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –њ—А–Њ¬≠—В–µ—Б—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г—В–≤–µ—А–ґ¬≠–і–∞—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ–С–Њ–≥ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–±—А¬ї. –ѓ—Е–≤–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–Љ–Њ–≥ –±—Л –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞—В—М –µ–Љ—Г –њ–∞—А—Г —Г—А–Њ–Ї–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ, –µ—Б–ї–Є —Б–∞–Љ –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—П–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –С–Њ–≥–∞. –Я–Њ–і–Њ–±¬≠–љ–∞—П –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Г–Ј—Г—А–њ–∞—Ж–Є—П "Summum –Т–Њ–њ–Є—В", –µ—Б—В–µ—Б¬≠—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ–±–µ—Б–њ—А–Є—З–Є–љ–љ–∞, –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –µ—С –ї–µ–ґ–Є—В –≥–ї—Г¬≠–±–Њ–Ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ (–≤–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —П –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г). –Э–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–Є –љ–∞ —З—В–Њ, –Њ–љ–∞ вАФ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З¬≠–љ–Є–Ї –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є privatio boni, —Б–≤–Њ–і—П—Й–µ–є –Ї –љ—Г–ї—О —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞; —Н—В–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—П –Р—А–µ–Њ–њ–∞–≥–Є—В–∞, –∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В —Г –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞.
–°–∞–Љ—Л–є —А–∞–љ–љ–Є–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И—Г—О –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ—Г ¬ЂOmne bonum a Deu, omne malum ab homine¬ї вАФ –Ґ–∞—В–Є–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞—П–≤–ї—П¬≠–µ—В: ¬Ђ–Э–Є—З—В–Њ –Ј–ї–Њ–µ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –С–Њ–≥–Њ–Љ; –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –≤—Б—С –Ј–ї–Њ¬ї. –≠—В—Г —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –§–µ–Њ—Д–Є–ї –Р–љ—В–Є–Њ—Е–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤ —В—А–∞–Ї—В–∞—В–µ ¬ЂAd Autolucum¬ї.
–Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ:
¬Ђ–Т–∞–Љ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–Є —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –≤ –С–Њ–≥–µ-—В–≤–Њ—А—Ж–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬≠–≤–∞–љ–Є—П –Ј–ї–∞, –љ–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —Г –Ј–ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї–∞—П-–ї–Є–±–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П (idian uepostain toue kakoue eilnaiw). –Ш–±–Њ –Ј–ї–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –ґ–Є–≤–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Є –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≤–Є–і–µ—В—М –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ—О –Ї–∞–Ї—Г—О –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М (ousian enupostaton). –Ш–±–Њ –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ (sterhsiz) –і–Њ–±—А–∞... –Ш —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ј–ї–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ –њ—А–Є—Б—Г—Й–Є–Љ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–±—Б—В¬≠–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є (en idial ueparxei), –љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Њ—В –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П (phrwmasin) –і—Г—И–Є [20]. –Ю–љ–Њ –љ–µ –µ—Б—В—М –љ–µ—Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ¬≠–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ –љ—С–Љ —В–µ, –Ї—В–Њ –і—Г—А–µ–љ, –Є –і–µ–ї–∞—О—В –µ–≥–Њ —А–∞–≤–љ—Л–Љ –і–Њ–±—А—Г... –Є –Њ–љ–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ—Л–Љ. –Ш–±–Њ, –µ—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Њ—В –±–Њ–≥–∞, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј –і–Њ–±—А–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Ј–ї–Њ?¬ї
–Ф—А—Г–≥–Њ–є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤–µ—В –љ–∞ –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г –њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є ¬Ђ–®–µ—Б—В–Њ–і–љ–µ–≤–∞¬ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В:
¬Ђ–Т —А–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Є—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ –С–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ. –Ц–Є–Ј–љ—М –љ–µ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В —Б–Љ–µ—А—В—М, —В—М–Љ–∞ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–∞, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М вАФ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П... –Ф–∞–ї–µ–µ, –µ—Б–ї–Є –Ј–ї–Њ –Є –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ—Б–Њ¬≠—В–≤–Њ—А—С–љ–љ—Л–Љ, –Є –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ—Л–Љ –С–Њ–≥–Њ–Љ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –±–µ¬≠—А—С—В—Б—П –µ–≥–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞? –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е –≤ –Љ–Є—А–µ. –І—В–Њ –ґ–µ –љ–∞–Љ —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М? –І—В–Њ –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ –ґ–Є–≤–∞—П –Њ–і—Г—И–µ–≤–ї—С–љ–љ–∞—П —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ (diaqesiz) –і—Г—И–Є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –і–Њ–±—А—Г, –Є –±–µ—А—С—В –Њ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤ –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е (reasumoiz) –ї—О–і—П—Е, –Є–Ј-–Ј–∞ –Є—Е –Њ—В–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Њ—В –і–Њ–±—А–∞... –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –Њ–љ –Є –µ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–ї–∞ –≤ —Б–µ–±–µ¬ї.
–Ґ–Њ—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ ¬Ђ–≤–µ—А—Е¬ї, –Љ—Л —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –Є ¬Ђ–љ–Є–Ј¬ї, –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ –Ј–і–µ—Б—М –≤ –њ—А–Є—З–Є–љ–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М –Є –і–Њ–≤–µ–і—С–љ –і–Њ –∞–±—Б—Г—А–і–∞: –≤–µ–і—М –і–Њ—Б—В–∞¬≠—В–Њ—З–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —В—М–Љ–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В —Б–≤–µ—В, –∞ —Б–≤–µ—В –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В —В—М–Љ—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –ґ–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –і–Њ–±—А–µ –Є –Ј–ї–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—В –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –і–ї—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ю–љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ—Г—О –њ–∞—А—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї¬≠–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е, sine qua non (–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ (–ї–∞—В.)) –≤—Б–µ—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є—П. –° —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М¬≠—И–µ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П. –° —Н—В–Њ–є –ґ–µ —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ, –±—Г–і—Г—З–Є —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–µ –≤—Л–≤–Њ–і—П—В—Б—П –і—А—Г–≥ –Є–Ј –і—А—Г–≥–∞, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –љ—С–Љ. –Ч–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –і–Њ–±—А–Њ, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ї –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Є –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є; –љ–Њ –Љ—Л –≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞—И–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –≠—В–Є —Д–∞–Ї—В—Л –Њ–і–Є–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ–Љ, –і—А—Г–≥–Њ–є вАФ –Ј–ї–Њ–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В¬≠—Б—П –љ–µ—З—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ consensus generalis (–Ю–±—Й–µ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ (–ї–∞—В.)). –Х—Б–ї–Є –Љ—Л —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Љ—Б—П —Б –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАФ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Ј–ї–∞, –љ–∞–Љ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –і–Њ–±—А–∞. –Э–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ вАФ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є; –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Д–∞–Ї—В–∞–Љ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —В–∞–Ї –ї–µ–≥–Ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М. –І—В–Њ–±—Л —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –±—Г–і–µ–Љ –і–∞—В—М —З–µ—В–Ї–Њ–µ –Њ–њ—А–µ¬≠–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–Њ–≤ –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Є. –Я—Б–Є—Е–Є–∞—В—А—Г –Є–Ј–≤–µ—Б¬≠—В–љ–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–∞ –Ј–∞–і–∞—З–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞.
–Я–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –Њ—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є, –љ–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ¬≠—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П privatio boni. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Є–Ј ¬Ђ–њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і—Г—И–Є¬ї, –Є –µ—Б–ї–Є –Њ–љ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Г–±–µ–ґ–і—С–љ, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ ¬Ђ–њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є¬ї –і—Г—И–Є, —З–µ–Љ—Г –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –≤ —А–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞. –Х—Б–ї–Є –і—Г—И–∞ –њ–µ—А–≤–Њ¬≠–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –і–Њ–±—А–Њ–є, —В–Њ –Њ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–∞ —З–µ–Љ-—В–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ —З—В–Њ-—В–Њ вАФ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М, –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Є–ї–Є —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ–Љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ reaqumia. –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ —Б–Њ –≤—Б–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М: –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ—З—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї –љ–µ–Ї–Њ–µ–Љ—Г –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Є–ї–Є —Д–∞–Ї—В—Г, –Њ–љ–Њ —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ —Б–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї –љ—Г–ї—О –Є –љ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞¬≠–µ—В—Б—П –≤ –љ–Є—З—В–Њ, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ–ї–∞–љ –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М¬≠–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ї–µ–≥—З–µ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М, —З–µ–Љ, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –і—М—П–≤–Њ–ї–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ–≥–Љ—Л, –љ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–∞–Љ, –∞ —Б—Г¬≠—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ. –Х—Б–ї–Є –і—М—П–≤–Њ–ї –Њ—В–њ–∞–ї –Њ—В –С–Њ–≥–∞ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–µ, —Н—В–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Ј–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ –Є –і–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ¬≠–Ї–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, вАФ —З—В–Њ –і—М—П–≤–Њ–ї —Г–ґ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї ¬Ђ–њ–Њ–≤¬≠—А–µ–ґ–і—С–љ–љ–Њ–є¬ї –і—Г—И–Њ–є, –Є –љ–∞–Љ –љ–∞–і–Њ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ¬≠–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –љ–µ—С –љ–∞ —Н—В—Г —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –њ—А–Є—З–Є–љ—Г. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Є–Ј—К—П–љ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П вАФ petitio principii (–Я—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П (—А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є) (–ї–∞—В.)), –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—Й–µ–µ –µ–≥–Њ –Ї –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—О: —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М, вАФ –і–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –і—М—П–≤–Њ–ї–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞¬≠–µ–Љ–Њ–є –і–Њ–≥–Љ–Њ–є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Г–≥—А–Њ–Ј–∞, –Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П –Њ—В –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–µ–≤ —Б –Є—Е –і—Г–∞–ї–Є–Ј¬≠–Љ–Њ–Љ. –≠—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –≤ —В—А–∞–Ї—В–∞—В–µ –Ґ–Є—В–∞ –Є–Ј –С–Њ—Б—В—А—Л, –Њ–Ј–∞–≥–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ ¬ЂAdversus Manichaeos¬ї (–Я—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–µ–≤ (–ї–∞—В.)), –≥–і–µ –Њ–љ, –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞—П –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В, —З—В–Њ –≤ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –љ–µ—В —В–∞–Ї–Њ–є –≤–µ—Й–Є, –Ї–∞–Ї –Ј–ї–Њ.
–Ш–Њ–∞–љ–љ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В –≤–Љ–µ—Б—В–Њ serhsiz (privatio) –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ ektrophtuT kalouT (–Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—В –і–Њ–±—А–∞). –Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ч–ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В –і–Њ–±—А–∞, –∞ –њ–Њ—Б–µ–Љ—Г –Ј–ї–Њ –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –і–Њ–±—А—Г¬ї.
–Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–є –Р—А–µ–Њ–њ–∞–≥–Є—В –і–∞—С—В –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–ї–∞ –≤ —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ ¬ЂDe divinis nominibus¬ї (¬Ђ–Ю –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ–µ–љ–∞—Е¬ї(–ї–∞—В.)). –Ч–ї–Њ, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –Њ—В –і–Њ–±—А–∞, –Є–±–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Њ—В –і–Њ–±—А–∞, —В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Ј–ї–Њ–Љ. –Э–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б—С —Б—Г—Й–µ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –і–Њ–±—А–∞, –≤—Б—С —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ, –∞ ¬Ђ–Ј–ї–Њ –љ–µ –µ—Б—В—М —Б—Г—Й–µ–µ¬ї (to de kakou oute on estin).
–Ч–ї–Њ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–Є–Љ, ... –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±¬≠–љ–Њ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—В—М –±—Л—В–Є–µ –Є —В–≤–Њ—А–Є—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –±–ї–∞–≥–∞.
–Ч–ї–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –Є –Њ–љ–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ, –љ–Є —В–≤–Њ—А—П—Й–Є–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–µ (ouk esti katolou to kakou oute agaqopoion).
–Т—Б–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤–µ—Й–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В, —Б—Г—В—М –і–Њ–±—А–Њ –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –Њ—В –і–Њ–±—А–∞; –љ–Њ –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–Є –ї–Є—И–µ–љ—Л –і–Њ–±—А–∞, –Њ–љ–Є –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–Є –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є, –љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б¬≠—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є.
–Ґ–Њ, —З—В–Њ –ї–Є—И–µ–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ, –Є–±–Њ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –љ–Є—З–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –≤ –і–Њ–±—А–µ —Б–≤–µ—А—Е—Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ¬≠—Б–Њ–±–Њ–Љ (kata to uperousion). –Ґ–Њ–≥–і–∞ –і–Њ–±—А–Њ, –Ї–∞–Ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Є –Ї–∞–Ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ, –Ј–∞–є–Љ—С—В –њ–µ—А–≤–µ–є—И–µ–µ –Є –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ј–ї—Г –ґ–µ –љ–µ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В.
–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Ж–Є—В–∞—В—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б¬≠—В—М—О –Ю—В—Ж—Л –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї–Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є, —Н—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ¬≠—И–µ–љ–Є—О –Ї –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г, –Њ—В—З—С—В–ї–Є–≤–Њ –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П —Г –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞. –Т —Е–Њ–і–µ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–Є —Б –Љ–∞–љ–Є—Е–µ—П–Љ–Є –Є –Љ–∞—А–Ї–Є–Њ–љ–Є—В–∞–Љ–Є –Њ–љ –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ:
¬Ђ–Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –≤–µ—Й–Є –і–Њ–±—А—Л, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–µ, –Є –і–Њ–±—А–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ –і–Њ–±—А—Л—Е –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–ї–∞–≤—Л –ї—Г—З—И–Є–Љ... –Ґ–µ –ґ–µ –≤–µ—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ –і—Г—А–љ—Л–Љ–Є, —Б—Г—В—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –≤–µ—Й–µ–є –і–Њ–±—А—Л—Е, –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є–µ —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤–љ–µ –±–ї–∞–≥–Є—Е –≤–µ—Й–µ–є... –Э–Њ –Є —Б–∞–Љ–Є —Н—В–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –і–Њ–±—А–∞, –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –≤–µ—Й–µ–є. –Ш–±–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –і–Њ–±—А–Њ–Љ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ. –Т–µ–і—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–µ–љ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –њ–Њ—Б¬≠–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞–љ–Њ—Б–Є—В –µ–є —Г—Й–µ—А–± вАФ –Ї–Њ–µ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї –±—Л, –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–ї –і–Њ–±—А–Њ –≤ –љ–µ–є. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –Њ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б¬≠—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–є –≤–µ—Й–Є... –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–±—А–Њ –±–µ–Ј –Ј–ї–∞, —В–∞–Ї–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ –С–Њ–≥ –Є –≤—Л—Б—И–Є–µ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ј–ї–Њ –ґ–µ –±–µ–Ј –і–Њ–±—А–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Ш–±–Њ –µ—Б–ї–Є –Ј–ї–Њ –љ–Є—З–µ–Љ—Г –љ–µ –≤—А–µ–і–Є—В, –Њ–љ–Њ –љ–µ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ; –µ—Б–ї–Є –ґ–µ –≤—А–µ–і–Є—В, —В–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ; –µ—Б–ї–Є –≤—А–µ–і–Є—В –Є –і–∞–ї–µ–µ, —В–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П —В–Њ–ї–Є–Ї–∞ –і–Њ–±—А–∞; –µ—Б–ї–Є –ґ–µ –Ј–ї–Њ –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В –≤—Б—С –і–Њ–±—А–Њ, —В–Њ –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –≤–µ—Й–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–љ–µ—Б—В–Є —Г—Й–µ—А–±; –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Є –Ј–ї–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–Є—В—М, –µ—Б–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–µ—В —В–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л, —З—М–µ –і–Њ–±—А–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Њ –љ–∞–љ–µ¬≠—Б–µ–љ–Є–µ–Љ —Г—Й–µ—А–±–∞¬ї.
–Т ¬ЂLiber Sententiarum ex Augustino¬ї (¬Ђ–Ъ–љ–Є–≥–∞ –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–є –Є–Ј –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞¬ї (–ї–∞—В.)) –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П: ¬Ђ–Ч–ї–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–µ–є, –Є–±–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М¬≠–Ї—Г –С–Њ–≥ –љ–µ –±—Л–ї –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Њ–љ–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В; –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –Є–ї–Є –њ–Њ—А—З–∞ —Б—Г—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Є–ї–Є –∞–Ї—В –ї–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Є¬ї . –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ь–µ—З –љ–µ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ; –љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–Є–є –Љ–µ—З –≤ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї—П—Е, вАФ –Њ–љ-—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ¬ї.
–≠—В–Є —Ж–Є—В–∞—В—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г—О—В —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—П –Є –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞: –Ј–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –ї–Є—И–µ–љ–Њ —Б—Г–±—Б¬≠—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є–±–Њ –Њ–љ–Њ вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–і–љ–Њ –ї–Є—И—М –Є–Љ–µ–µ—В —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О. –Ч–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б¬≠—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є vitium (–љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї (–ї–∞—В.)), –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Й–∞–Љ–Є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М¬≠—В–∞—В–µ –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є –≤–Њ–ї–Є (—Б–ї–µ–њ–Њ—В—Л, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –і—Г—А–љ—Л–Љ–Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –Є —В.–њ.) –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –§–Њ–Љ–∞ –Р–Ї–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤—Л—И–µ–њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –Є–Ј –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—П:
¬Ђ–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –і—А—Г–≥—Г—О, –Ї–∞–Ї —В—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–µ—В. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ, —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М –Є–Ј –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –і–Њ–±—А–∞. –Ф–∞–ї–µ–µ: –≤—Л—И–µ –Љ—Л —Б–Ї–∞¬≠–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –і–Њ–±—А–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б—С –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П; –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б—П–Ї–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –ґ–µ–ї–∞–µ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞, —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–і—С—В—Б—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –±—Л—В–Є–µ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Б–Њ—В–≤–Њ¬≠—А—С–љ–љ–Њ–є –≤–µ—Й–Є –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ј–ї–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–µ–Ї—Г—О —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —Д–Њ—А–Љ—Г –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ј–ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—В—М—Б—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–±—А–∞. –Ч–ї–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М—О, –і–Њ–±—А–Њ –ґ–µ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М—О —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П.
–І—В–Њ –≤—Б—П–Ї–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞–і–Є —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ–ї–Є, —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞, —З—В–Њ –≤—Б—П–Ї–∞—П —Б–Є–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞–і–Є —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ф–∞–ї–µ–µ, —В–Њ, –Ї —З–µ–Љ—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞, —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–∞—В—М —Н—В–Њ–є —Б–Є–ї–µ, –Є–±–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –±—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–Њ –µ–є –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–∞–ї–Њ. –Э–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–∞–µ—В –≤–µ—Й–Є, –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ –і–ї—П –љ–µ—С. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –≤—Б—П–Ї–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞–і–Є –і–Њ–±—А–∞¬ї.
–Ґ–Њ—В –ґ–µ –°–≤—П—В–Њ–є –§–Њ–Љ–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—П ¬Ђ—З–µ–Љ –±–µ–ї–µ–µ –≤–µ—Й—М, —В–µ–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Њ–љ–∞ —Б–Љ–µ—И–∞–љ–∞ —Б —З—С—А–љ—Л–Љ¬ї, –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –ґ–µ, —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї¬≠–Њ–ґ–љ–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—З–µ–Љ —З–µ—А–љ–µ–µ –≤–µ—Й—М, —В–µ–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Њ–љ–∞ —Б–Љ–µ—И–∞–љ–∞ —Б –±–µ–ї—Л–Љ¬ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–µ—А–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –њ–µ—А–≤–Њ–µ, –љ–Њ –Є –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ –µ–Љ—Г. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –µ—Й–µ –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–µ—В, –љ–Њ –Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б–≤–µ—В –њ–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —В—М–Љ—Г.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –ї–Є—И—М —В–Њ, —З—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–Њ вАФ –њ–Њ –§–Њ–Љ–µ –Р–Ї–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г вАФ –ї–Є—И—М –і–Њ–±—А–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ ¬Ђ—Б—Г¬≠—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї. –Т –µ–≥–Њ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –≤–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –і–Њ–±—А–∞, —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ–µ ¬Ђ—Г–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–і–Њ–±–∞—О—Й–µ–Љ—Г, –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г¬ї. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђomne agens agit propter bonum¬ї –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Т—Б—П–Ї–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞–і–Є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Є –і—М—П–≤–Њ–ї, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ю–љ —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–і–µ–ї—С–љ ¬Ђ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ"¬ї –Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г вАФ –љ–µ –≤ –і–Њ–±—А–µ, –∞ –≤–Њ –Ј–ї–µ. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤—А—П–і –ї–Є –Њ—В—Б—О–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ¬ї.
–Ч–ї–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–љ—М¬≠—И–µ–љ–Є–µ, ¬Ђ–Њ—В—К—П—В–Є–µ¬ї –і–Њ–±—А–∞; –љ–Њ –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ —Б —В–µ–Љ –ґ–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: ¬Ђ—В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –њ—А–Є –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–Є–Љ–µ, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—С—А–Ј–љ—Г—В –љ–∞—И–Є –љ–Њ—Б—Л –Є —Г—И–Є, –ї–Є—И—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є–ґ–µ (–µ—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ), —З–µ–Љ —В–∞, —З—В–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є —Н–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–∞—А–µ. –Т–µ–і—М –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —А–µ–і–Ї–Њ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –љ–Є–ґ–µ 230 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –љ–∞–і –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–Љ –љ—Г–ї—С–Љ. –Т—Б–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ "—В–µ–њ–ї—Л" –≤ —В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, —З—В–Њ –љ–Є–≥–і–µ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–є –љ—Г–ї—М. –Я–Њ–і–Њ–±¬≠–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Б–µ –≤–µ—Й–Є –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Є¬ї, –Є –Ї–∞–Ї —Е–Њ–ї–Њ–і –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ —В–µ–њ–ї–∞, —В–∞–Ї –Є –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞, –µ–≥–Њ ¬Ђ–Њ—В—К—П—В–Є–µ¬ї. –Р—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В privatio boni –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Н–≤—Д–µ–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ petltio principii –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –±—Г–і–µ—В –ї–Є –Ј–ї–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–±—А–Њ–Љ –Є–ї–Є –ґ–µ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є. –Ы–Њ–ґ–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б–ї–µ¬≠–і—Г–µ—В –Є–Ј –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є Deus = Summum Bonum (–С–Њ–≥ = –Т—Л—Б—И–µ–µ –Ф–Њ–±—А–Њ (–ї–∞—В.)), –њ–Њ—Б¬≠–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л—Б—И–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Њ –Ј–ї–Њ. –Ю–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ –і–Њ–±—А–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ–µ –і–Њ–±—А–Њ (–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Љ–Є—А—П–љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В ¬Ђ—Е—Г–і—И–Є–Љ¬ї) [21]. –Ш, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –Љ—С—А–Ј–љ–µ–Љ, –љ–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–µ–Љ–њ–µ¬≠—А–∞—В—Г—А–∞ –љ–∞ 230 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –≤—Л—И–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ –љ—Г–ї—П, —В–∞–Ї –ґ–µ –µ—Б—В—М –ї—О–і–Є –Є –≤–µ—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, —Е–Њ—В—П –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –С–Њ–≥–Њ–Љ, –і–Њ–±—А—Л –ї–Є—И—М –≤ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –∞ –Ј–ї—Л вАФ –≤ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є.
–Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –Ј–∞ –Ј–ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї—Г—О –±—Л —В–Њ –±—Л –±—Л–ї–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–µ ¬ЂOmne bonum a Deo omne malum ab homine¬ї. –Ч–і–µ—Б—М –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М —В–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ—Л, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј¬≠–і–∞—В–µ–ї—М —В–µ–њ–ї–∞ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і. –Ь—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Г—О –њ—А–∞¬≠–≤–Њ—В—Г –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –≤—Б–µ –і–Њ–±—А—Л, вАФ –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –ґ–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–Њ–±—А—Л, —З—В–Њ–±—Л –Є—Е –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–∞.
–Э–µ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ—Г-–ї–Є–±–Њ –≤–Ј–±—А–µ–і—С—В –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ¬≠—А—П—Е –і–Є–Ї—В–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ґ–Є–Љ–Њ–≤ ¬Ђ—Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Њ¬≠–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞¬ї; —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Њ –±—Л –Ї–∞–Ї –Є–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ.
–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ; –Њ–љ–∞ –Є—Е –Ј–љ–∞–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е. ¬Ђ–Ф–Њ–±—А–Њ–Љ¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –њ–Њ–і—Е–Њ¬≠–і—П—Й–Є–Љ, –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л–Љ –Є–ї–Є —Ж–µ–љ–љ—Л–Љ —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Ј–ї–Њ–Љ вАФ –љ–µ—З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ. –Х—Б–ї–Є –≤–µ—Й–Є, –љ–∞–Ј—Л¬≠–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –љ–∞–Љ–Є –і–Њ–±—А–Њ–Љ, ¬Ђ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ¬ї –±–ї–∞–≥–Є, —В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –Є –≤–µ—Й–Є, —В–∞–Ї –ґ–µ ¬Ђ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ¬ї —П–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –Ј–ї–Њ–Љ. –Ф–ї—П –њ—Б–Є—Е–Њ¬≠–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –і–µ–ї–Њ —Б –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–љ—В–Є—В–µ–Ј–Њ–є, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ–ї—М–Ј—П —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г—В—М, –њ–Њ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ¬ї –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–µ—З—В–Њ, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П –Ј–ї–Њ–Љ, –∞ ¬Ђ–Ј–ї–Њ¬ї вАФ –љ–µ—З—В–Њ, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–Љ. –Х—Б—В—М –≤–µ—Й–Є, —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±–Њ–є –Ї—А–∞–є–љ–µ–µ –Ј–ї–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М –Ї—А–∞–є¬≠–љ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ. –Х—Б—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–µ—Й–Є –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї—А–∞–є–љ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л –Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В¬≠—Б—П –Ј–ї–Њ–Љ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –Є—Е –ї–Є–љ–Є–Є –Њ–≥–љ—П. –Ч–∞¬≠–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –Ј–ї–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ, –Є–±–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –ї–Њ–ґ¬≠–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –і–∞—Б—В. –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –љ–∞ –Ј–ї–Њ –≤ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В¬≠–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ, –Є –Ј–ї—Л–µ –і–µ–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л, –Ї–∞–Ї –Є –і–Њ–±—А—Л–µ, –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Є –≤ —В–µ—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е, –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б¬≠–Ї–∞—П –њ—Б–Є—Е–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е –Є –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—М —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –і–Њ–±—А–Њ–Љ –Є –Ј–ї–Њ–Љ. –Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–Є–Ї—В–Њ –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞¬≠–і–∞–µ—В –≤ –Љ–Є—А–µ. –Ь—Л –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –љ–∞–і–µ–µ–Љ—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ вАФ —В–∞–Ї –љ–∞–Љ —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ. –Э–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –і–∞–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –±—Л —Б–Њ–±–Њ–є –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ. –°–Ї–Њ–ї—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Љ—Л –љ–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–µ–Љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є —И–∞—В–Ї–Њ—Б—В—М –љ–∞—И–Є—Е –Љ–Њ¬≠—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є, —Н—В–Њ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—Б –Њ—В —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤, –Є —В–µ, –Ї—В–Њ —Б—З–Є—В–∞—О—В —Б–µ–±—П —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –љ–∞–і –і–Њ–±—А–Њ–Љ –Є –Ј–ї–Њ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞–Є—Е—Г–і—И–Є–Љ–Є –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Є–±–Њ –Є—Е –≥–ї–Њ–ґ–µ—В –±–Њ—П–Ј–љ—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Й–µ—А–±–љ–Њ—Б—В–Є.
–°–µ–є—З–∞—Б, –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –ї—О–і–Є –љ–µ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ¬≠–≥–∞–ї–Є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–ї–∞, —В–∞—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –љ–Є—Е. –Ъ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О, –Њ–љ–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ, –Є —Н—В–Њ –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–ї–∞ –Є –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞—В—М –ї—О–±–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ¬≠–ї–µ–љ–Є–µ, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–ї–Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П вАФ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Г–Ї–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–∞—П –і–µ–ї–Њ —Б —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥, —П, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О –љ–Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–µ–є –≤–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ¬≠–і–µ–љ–Є—П. –ѓ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї—Г –ї–Є—И—М —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Њ–њ—Л—В–∞ –Є –Є–љ—В–µ—А–њ¬≠—А–µ—В–Є—А—Г–µ—В –µ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л–Љ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Ь–Њ—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ privatio boni —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞. –° –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, privatio boni, –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Њ—Б–љ–Њ¬≠–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ petitio principii, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ, –µ—Б—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –≤—Л —Г–ґ–µ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ. –Р—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —Б–Є–ї–Њ–є —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П, –љ–Њ –Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В –љ–µ—Б–Њ¬≠–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ, –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П. –Ф–∞–љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М –њ–µ—А¬≠–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –і–Њ–±—А—Г, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—П –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ вАФ –њ–Њ–і–Њ¬≠–±–∞—О—Й–Є–µ –Є –љ–µ–њ–Њ–і–Њ–±–∞—О—Й–Є–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Ј–∞ privatio boni, –Њ–љ–∞, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ, –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М –і–Њ–±—А–Њ –Є –њ—А–µ—Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—В—М –Ј–ї–Њ. Privatio boni –Љ–Њ–ґ–µ—В, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ–Њ–є. –ѓ –љ–µ –±–µ—А—Г—Б—М –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—М —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Г. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, –љ–∞ —З—С–Љ —П –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—О, вАФ —З—В–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ –±–µ–ї–Њ–µ –Є —З—С—А–љ–Њ–µ, —Б–≤–µ—В –Є —В—М–Љ–∞, –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В¬≠–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞.
–≠—В–Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–µ–є—И–Є–є —Д–∞–Ї—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤–µ—А–љ—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е ¬Ђ–Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤—Л—Е –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—П—Е¬ї вАФ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є–±–ї–Є¬≠–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ 150 –≥. –љ.—Н. –Ш—Е –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤—Г—О –Є –ї–µ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –С–Њ–≥–∞, –∞ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞—Е –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ—Л—Е –±—А–∞—З–љ—Л—Е –њ–∞—А –Є–ї–Є –±–Є–љ–∞—А–љ—Л—Е –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ь–∞—А–Є–љ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –С–∞—А–і–µ–Ј–∞–љ–∞, —Б—З–Є—В–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ ¬Ђ—Б–≤–µ—В¬≠–ї—Л–Љ¬ї –Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–µ (dexion), –∞ –Ј–ї–Њ ¬Ђ—В—С–Љ–љ—Л–Љ¬ї, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–µ (a ristero). –Ы–µ–≤–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—З–∞¬≠–ї—Г. –Ґ–∞–Ї, —Г –Ш—А–Є–љ–µ—П (Adv. haer, I, 30, 3) –°–Њ—Д–Є—П Prounikos (—Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П (–≥—А–µ—З.)) –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ Sinistra (–Ы–µ–≤–∞—П (–ї–∞—В.)). –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Н—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–≤¬≠–Љ–µ—Б—В–Є–Љ—Л–Љ —Б –Є–і–µ–µ–є –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞. –Х—Б–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ–Њ—Б—В—М—О –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ вАФ –∞ –≤—Б—П–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–Њ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–µ–љ, вАФ —В—А—Г–і¬≠–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞—В—М –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–∞. –Т –ї—О–±–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –ї–µ—В –љ–∞ –і–≤–µ—Б—В–Є —Б—В–∞—А—И–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤—Л—И–µ —Ж–Є—В–∞—В) –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞ –љ–µ –≤–µ–і—С—В —Б –љ–µ–Њ–±¬≠—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Ї –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г –Є –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–µ—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, —Н—В–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ, –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ —Б–Њ–±–Њ–є —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Є–µ–≥–Њ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П. –ѓ—Е–≤–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤, –∞ –љ–µ—Б–њ¬≠—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–Љ. –С–Њ–≥ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞, —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –µ—Б—В—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–±—А–Њ. –Э–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М, —З—В–Њ —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –љ–∞–Љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ¬≠–ї–µ—В—М —Н—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—Й–Є–Љ—Б—П —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є.
–Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –њ—А–Њ—Б¬≠–ї–µ–і–Є—В—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є. ¬Ђ–С–Њ–≥, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ, вАФ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –і–≤–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ (basileiaV) –Є –і–≤–µ —Н—А—Л (aivnaV), –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –±—Г–і–µ—В –Њ—В–і–∞–љ–Њ –Ј–ї—Г (ponhrV), –Є–±–Њ –Њ–љ–Њ –Љ–∞–ї–Њ –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ–њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–µ. –С—Г–і—Г—Й–Є–є –ґ–µ –Љ–Є—А –Њ–љ –Њ–±–µ—Й–∞–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –і–ї—П –і–Њ–±—А–∞, –Є–±–Њ –Њ–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ –Є –≤–µ—З–љ–Њ¬ї. –Ф–∞–ї–µ–µ –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ –і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞: —В–µ–ї–Њ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ¬≠–Љ—Г –љ–∞—З–∞–ї—Г, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ–Љ–Њ–Љ—Г —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –і—Г—Е вАФ –Ї –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—З–∞–ї—Г, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–Љ—Г —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–љ –љ–∞¬≠–Ј—Л–≤–∞–µ—В —В–µ–ї–Њ –Є –і—Г—Е ¬Ђ–і–≤—Г–Љ—П —В—А–Є–∞–і–∞–Љ–Є¬ї [22].
¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Є–Ј –і–≤—Г—Е —Б–Љ–µ—Б–µ–є (furamatwn, –і–Њ—Б–ї–Њ–≤¬≠–љ–Њ ¬Ђ–≤–Є–і–Њ–≤ —В–µ—Б—В–∞¬ї), –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –Є –њ—Г—В–µ–є –ї–µ–ґ–Є—В –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –і–≤–∞: –њ—Г—В—М –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—П –Є –њ—Г—В—М –љ–µ–њ–Њ—Б–ї—Г¬≠—И–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г; –Є –і–≤–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л вАФ –Њ–і–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –µ—Б—В—М —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –љ—Л–љ—З–µ –њ—А–∞–≤–Є—В –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ... –Ш–Ј —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е, –Њ–і–љ–Њ –≤–µ—А—И–Є—В –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Ш –і–≤–∞ —Н—В–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞, –њ—А–∞–≤—П—Й–Є–µ –≤—Б–µ–Љ, —Б—Г—В—М —Б–Ї–Њ—А—Л–µ —А—Г–Ї–Є –С–Њ–ґ—М–Є¬ї.
–Ч–і–µ—Б—М –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ–µ–Ї –љ–∞ –Т—В–Њ—А–Њ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є–µ, 32.39: ¬Ђ–ѓ —Г–Љ–µ—А—Й–≤¬≠–ї—П—О –Є –Њ–ґ–Є–≤–ї—П—О¬ї. –С–Њ–≥ —Г–±–Є–≤–∞–µ—В –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Є —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ–є.
¬Ђ–≠—В–Є –і–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤–љ–µ –С–Њ–≥–∞, –Є–±–Њ —Г –љ–Є—Е –љ–µ—В –Є–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ (arch). –Э–µ –±—Л–ї–Є –Њ–љ–Є –Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –С–Њ–≥–Њ–Љ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ; –Є–±–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –Њ–љ–Є –Њ–±—Й–Є–Љ —Б –љ–Є–Љ —Г–Љ–Њ–Љ (omodoxoi)... –Я–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –ґ–µ –±—Л–ї–Є –С–Њ–≥–Њ–Љ —З–µ—В—Л—А–µ –њ–µ—А–≤–Њ—Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ вАФ —В–µ–њ–ї–Њ–µ –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ, –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ–µ –Є —Б—Г—Е–Њ–µ. –Т—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ вАФ –Ю—В–µ—Ж –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є (ouesita), –љ–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—П —Н–ї–µ¬≠–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Ш–±–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –±—Л–ї–Є —Б–Љ–µ—И–∞–љ—Л –Є–Ј–≤–љ–µ, –≤—Л–±–Њ—А (proairesi) –Ј–∞—А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –љ–Є—Е, –Ї–∞–Ї –Є—Е –і–Є—В—П¬ї.
–Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—П —З–µ—В—Л—А—С—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ, –≤—Л–Ј–≤–∞–≤—И–µ–µ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–є, –Є–ї–Є –∞–Ї—В–Њ–≤ –≤—Л–±–Њ—А–∞. –І–µ¬≠—В—Л—А–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В —З–µ—В–≤–µ—А–Є—З–љ—Г—О —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О —В–µ–ї–∞ (tetragenh oue swmato ousia), –∞ –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ –Є –Ј–ї–∞ (toue ponhroue). –≠—В–∞ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ ¬Ђ—В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ –Є–Љ, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–∞—Б—М —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—О –Є–Ј–≤–љ–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤–Њ–ї–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ—С, –Ї–∞–Ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤—Л–±–Њ—А, —А–∞–і—Г—О—Й–Є–є—Б—П –Ј–ї—Г¬ї.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: –І–µ—В–≤–µ—А–Є—З–љ–∞—П —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –≤–µ—З–љ–∞ (ouisa aei), –Њ–љ–∞ вАФ –і–Є—В—П –С–Њ–≥–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ –Ј–ї—Г –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≤–љ–µ –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї —Б–Љ–µ—Б–Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –С–Њ–≥–∞. –Ч–ї–Њ, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –љ–Є –С–Њ–≥–Њ–Љ, –љ–Є –Ї–µ–Љ-–ї–Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ, –Њ–љ–Њ –љ–µ –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Я–µ—В—А, –≤ —Г—Б—В–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —Н—В–Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞¬≠–ґ–µ–љ–Є—П, —П–≤–љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–≤–µ—А–µ–љ, –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ–Є—В –і–µ–ї–Њ.
–Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –±–µ–Ј –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ¬≠—А–µ–љ–Є—П (–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ –±–µ–Ј –µ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ–∞) —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, вАФ —Е–Њ—В—П —В–∞–Ї—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–Є—А–Є—В—М —Б –Є–і–µ–µ–є –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г–Ї –С–Њ–≥–∞, ¬Ђ–≤–µ—А—И–∞—Й–Є—Е –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –Њ–і–љ–∞ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Њ–є¬ї. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –Я–µ—В—А, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П¬≠—О—Й–Є–є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –Ј–ї–∞.
–Р–≤—В–Њ—А ¬Ђ–Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є¬ї —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–µ—В –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –≤ –і—Г—Е–µ –Я–µ—В—А–∞, –Є–Љ–µ—О—Й—Г—О —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є ¬Ђ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є¬ї, —А–Є—В—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В—В–µ–љ–Њ–Ї. –Т–Ј—П—В–Њ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –µ–≥–Њ –і–Њ–Ї—В—А–Є¬≠–љ–Њ–є –і–≤—Г—Е –∞—Б–њ–µ–Ї—В–Њ–≤ –С–Њ–≥–∞, —Н—В–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В –µ–≥–Њ –≤ —В–µ—Б–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Б —А–∞–љ–љ–µ–є –Є—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б¬≠–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Є—П, –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –Є–і—Г—Й–µ–µ –Њ—В —Н–±–Є–Њ–љ–Є—В–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –С–Њ–≥ –Є–Љ–µ–ї –і–≤—Г—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є: —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ вАФ –°–∞—В–∞–љ—Г, –Є –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ вАФ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ь–Є—Е–µ–є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –Њ–і–љ–Є–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є.
–Т —Б—А–µ–і–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –∞–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—Б–Є—Б–Њ–≤ (–Є—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –љ–Њ—Б—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Ш—Б–∞–є–Є¬ї, –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ —Б–µ–Љ–Є –љ–µ–±–µ—Б, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ш—Б–∞–є—П –±—Л–ї –њ—А–Њ–љ–µ—Б—С–љ. –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –°–∞–Љ–Љ–∞–Є–ї–∞ –Є –µ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є —В–≤–µ—А–і–Є –≤–µ–ї–∞—Б—М ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –±–Є—В–≤–∞¬ї. –Ч–∞—В–µ–Љ –∞–љ–≥–µ–ї –њ–Њ–≤–ї—С–Ї –µ–≥–Њ –і–∞–ї–µ–µ, –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –љ–µ–±–Њ, –Є –њ–Њ–і–≤–µ–ї –µ–≥–Њ –Ї —В—А–Њ–љ—Г. –°–њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В —В—А–Њ–љ–∞ —Б—В–Њ—П–ї–Є –∞–љ–≥–µ–ї—Л, –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ, —З–µ–Љ —В–µ –∞–љ–≥–µ–ї—Л, —З—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї–Є —Б–ї–µ–≤–∞. –Ґ–µ, —З—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї–Є —Б–њ—А–∞–≤–∞, ¬Ђ–≤—Б–µ –њ–µ–ї–Є —Е–≤–∞–ї—Г –≤ –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–ї–Њ—Б¬ї, —В–µ –ґ–µ, —З—В–Њ —Б–ї–µ–≤–∞, –њ–µ–ї–Є –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є, –Є –њ–µ–љ–Є–µ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е. –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ–±–µ –≤—Б–µ –∞–љ–≥–µ–ї—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ, –Є –і–∞–ї—М—И–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П вАФ —З—В–Њ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ–±–µ, —З—В–Њ –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –°–∞–Љ–Љ–∞–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –љ–µ–±–µ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –∞–љ–≥–µ–ї—Л, —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —Б–ї–µ–≤–∞, —В–∞–Љ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–µ–Ї¬≠—А–∞—Б–љ—Л. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –љ–Є–ґ–љ–Є–µ –љ–µ–±–µ—Б–∞ –љ–µ —В–∞–Ї —Б–Є—П—О—Й–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л, –Ї–∞–Ї –≤–µ—А—Е–љ–Є–µ; –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–µ –≤ —Б–Є—П–љ–Є–Є. –Ф—М—П–≤–Њ–ї, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞—А—Е–Њ–љ–∞–Љ, –Њ–±–Є—В–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–і–µ –Є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ, –Њ–љ –Є –µ–≥–Њ –∞–љ–≥–µ–ї—Л —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –∞—Б—В—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–≥–∞–Љ –Є –≤–ї–Є—П–љ–Є—П–Љ. –У—А–∞–і–∞—Ж–Є—П —Б–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –њ—Г—В–Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–±–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б—Д–µ—А—Л –і—М—П–≤–Њ–ї–∞ –Є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, —Б–≤–µ—В –Ї–Њ—В–Њ¬≠—А–Њ–є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–µ—В –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–±–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –і–Њ¬≠–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–є –Є –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–µ. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ¬≠–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤—Л –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є¬ї, —В–∞–Ї –Є —Н—В–Њ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –і–Њ-–Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г (II –≤), –Ї–Њ–≥–і–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤—Г –µ—Й—С –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ—Г–ґ–і—Л —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П —Б –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–∞–Љ–Є –≤ –ї–Є—Ж–µ –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–µ–≤. –Т–Є–і–µ–љ–Є–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–Є–љ—П—В—М –Ј–∞ –і–Њ–њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є ¬Ђ–Є–љ—М-—П–љ¬ї, –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤ –љ—С–Љ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ—Б—В–Є –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Є—Б—В–Є–љ–µ, —З–µ–Љ privatio boni. –Ю–љ–∞, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –≤—А–µ–і–Є—В –Љ–Њ–љ–Њ—В–µ–Є–Ј–Љ—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї —П–љ –Є –Є–љ—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—В—Б—П –≤ –Ф–∞–Њ (–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є–µ–Ј—Г–Є—В—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –Ї–∞–Ї ¬Ђ–С–Њ–≥¬ї). –Т—Б–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —В–∞–Ї, –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Є–є –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ю—В—Ж–Њ–≤ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—В—М —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ—П–≤–љ–Њ –≤–µ—А–Є–ї–Є –≤ —Б—Г–±—Б¬≠—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞. –≠—В–Њ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –Є—Е –Ї –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–Љ—Г –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–њ–Њ¬≠–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О, —З—В–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М –Є –С–Њ–≥. –†–∞–љ–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –±–Њ–ї–µ–µ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –µ—Й—С —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –±—Л–ї–Є –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –њ–Њ–≥—А–µ—И–љ–Њ—Б—В–Є.
–Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —А–Є—Б–Ї–љ—Г—В—М –Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–Њ–≥–∞–і–Ї—Г, —З—В–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Є–µ–≥–Њ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–≥–∞, —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Г—О –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ–љ—Б—В–µ–ї–ї—П—Ж–Є—О –µ—Й–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Ъ–љ–Є–≥–Є –Ш–Њ–≤–∞, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—В—М—Б—П –≤ –≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е –Є –≤ —Б–Є–љ–Ї—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л вАФ –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б—В–Є –С–Њ–≥–∞, вАФ –љ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є—Г–і–µ–µ–≤. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–∞ –і–≤—Г—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –С–Њ–≥–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ —Г –Є—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, –ґ–Є–≤—И–Є—Е –≤ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ–µ. –Т–љ—Г—В—А–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –і–∞–љ–љ–∞—П –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –Ї –±–Њ–≥–Њ–Љ–Є–ї–∞–Љ –Є –Ї–∞—В–∞—А–∞–Љ; –≤ –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ–µ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–∞ –љ–∞ —Е–Њ–і —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є –Є —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є–ї–∞ —Б–µ–±—П –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –і–≤—Г—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Ї–∞–±–±–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ¬≠–≥–Њ –Ф—А–µ–≤–∞ –°–µ—Д–Є—А–Њ—В, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П hesed (¬ї–ї—О¬≠–±–Њ–≤—М¬ї) –Є din (¬Ђ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М¬ї) (–Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Ѓ–љ–≥ –Є–Љ–µ–µ—В –≤ –≤–Є–і—Г 4-—О –Є 5-—О —Б–µ—Д–Є—А–Њ—В—Г: –•–µ—Б–µ–і вАФ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–µ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ –Є –У–µ–±—Г—А–∞ вАФ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є–µ (–ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М) - –Я—А–Є–Љ. —А–µ–і.). –Ч–љ–∞—В–Њ–Ї —А–∞–≤–≤–Є–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є—П –¶–≤–Є –Т–µ—А–±–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–і–µ—А–ґ–µ–Ї –Є–Ј –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ.
–†–∞–≤–≤–Є–љ –Ш–Њ—Б–Є—Д —Г—З–Є–ї: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б—В–Є—Е–∞: ¬Ђ–∞ –≤—Л –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В–µ –Ј–∞ –і–≤–µ—А–Є –і–Њ–Љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ —Г—В—А–∞¬ї (–Ш—Б—Е–Њ–і, 12:22) [23]? –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–ї—П—О—Й–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –Њ–љ –љ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞–µ—В –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–Љ–Є –Є –Ј–ї—Л–Љ–Є. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —Б –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л—Е¬ї. –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—П —Б—В–Є—Е –Ш—Б—Е–Њ–і 33:5 (¬Ђ–µ—Б–ї–Є –ѓ –њ–Њ–є–і—Г —Б—А–µ–і–Є –≤–∞—Б, —В–Њ –≤ –Њ–і–љ—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Є—Б—В—А–µ–±–ї—О –≤–∞—Б¬ї) –Љ–Є–і—А–∞—И –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–ѓ—Е–≤–µ –Є–Љ–µ–µ—В –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞–Ј–≥–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–∞—Б –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ вАФ –Є–±–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –≥–љ–µ–≤–∞, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —Б—В–Є—Е–µ –Ш—Б–∞–є—П, 26:20, ¬Ђ–£–Ї—А–Њ–є—Б—П –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –і–Њ–Ї–Њ–ї–µ –љ–µ –њ—А–Њ–є–і—С—В –≥–љ–µ–≤¬ї, вАФ –Є –≤ —Н—В–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В –≤–∞—Б". –ѓ—Е–≤–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–µ—В –Ј–і–µ—Б—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ–Њ–є –≥–љ–µ–≤–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–Є–≥ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–љ–µ–≤–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–µ, –Њ–љ–Њ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В —Б–≤–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Т–∞–ї–∞¬≠–∞–Љ, ¬Ђ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Є–і–Є—В –≤–Є–і–µ–љ–Є—П –Т—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ¬ї (–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ: ¬Ђ–Ч–љ–∞–µ—В –Љ—Л—Б–ї–Є –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–≥–Њ...¬ї вАФ –≤ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–∞ ¬Ђ... –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–≥–Њ...¬ї -–Я—А–Є–Љ. —А–µ–і.), –±—Г–і—Г—З–Є –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ –Т–∞–ї–∞–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—М –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—М, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б—В–Њ–ї—М –Њ–њ–∞—Б¬≠–љ—Л–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ: –µ–Љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≥–љ–µ–≤–∞ –ѓ—Е–≤–µ.
–Ы—О–±–Њ–≤—М –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ –С–Њ–≥–∞ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є, –∞ –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є–µ, - –µ–≥–Њ –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є. –Ґ–∞–Ї, –Љ—Л —З–Є—В–∞–µ–Љ –≤ III –Ъ–љ–Є–≥–µ –¶–∞—А—Б—В–≤, 22.19: ¬Ђ–ѓ –≤–Є–і–µ–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, —Б–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ –°–≤–Њ—С–Љ, –Є –≤—Б—С –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ—А–Є –Э—С–Љ, –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г—О –Є –њ–Њ –ї–µ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –Х–≥–Њ¬ї. –Ь–Є–і—А–∞—И –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г–µ—В: ¬Ђ–Х—Б—В—М –ї–Є –≤ –≤—Л—И–љ–Є—Е –ї–µ–≤–Њ–µ –Є –њ—А–∞–≤–Њ–µ? –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Є —Б—В–Њ—П—В —Б–њ—А–∞–≤–∞, –∞ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї–Є - —Б–ї–µ–≤–∞¬ї. –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є –Ї —Б—В–Є—Е—Г –Ш—Б—Е–Њ–і, 15.6 (¬Ђ–Ф–µ—Б–љ–Є—Ж–∞ –Ґ–≤–Њ—П, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М —Б–Є–ї–Њ—О; –і–µ—Б–љ–Є—Ж–∞ –Ґ–≤–Њ—П, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, —Б—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –≤—А–∞–≥–∞¬ї) —В–∞–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—Л–љ—Л –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—В –≤–Њ–ї—О –С–Њ–≥–∞, –Њ–љ–Є –і–µ–ї–∞—О—В –µ–≥–Њ –ї–µ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –њ—А–∞–≤–Њ–є. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—В –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї—О, —В–Њ –і–∞–ґ–µ –њ—А–∞–≤—Г—О –µ–≥–Њ —А—Г–Ї—Г –Њ–љ–Є –і–µ–ї–∞—О—В –ї–µ–≤–Њ–є¬ї.. ¬Ђ–Ы–µ–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞ –С–Њ–≥–∞ —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–µ—В –≤–і—А–µ–±–µ–Ј–≥–Є; –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞ —Б–ї–∞–≤–љ–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В¬ї.
–Ю–њ–∞—Б–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—П –ѓ—Е–≤–µ –і–∞—С—В –Њ —Б–µ–±–µ –Ј–љ–∞—В—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–µ: ¬Ђ–Ш –µ—Й—С —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Т—Б–µ—Б–≤—П—В–µ–є—И–Є–є, –і–∞ –±—Г–і–µ—В –Ю–љ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ: –Х—Б–ї–Є —П —Б–Њ—В–≤–Њ—А—О –Љ–Є—А, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–≤ –µ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –ї–Є—И—М –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–Є, –≥—А–µ—Е–Є –µ–≥–Њ –±—Г–і—Г—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Є; –љ–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є—И—М —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Љ–Є—А —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г —П —Б–Њ—В–≤–Њ—А—О –Љ–Є—А, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–≤ –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є–Є –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–Є, –Є –і–∞ —Г—Б—В–Њ–Є—В –Њ–љ!¬ї –Ь–Є–і—А–∞—И –љ–∞ –С—Л—В–Є–µ, 18:23 (—Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–∞ –Ј–∞ –°–Њ–і–Њ–Љ) –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В (–Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–∞): ¬Ђ–Х—Б–ї–Є —В—Л —Е–Њ—З–µ—И—М, —З—В–Њ–±—Л –Љ–Є—А —Г—Б—В–Њ—П–ї, —В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Є–±–Њ –µ—Б–ї–Є —В—Л –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—И—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Љ–Є—А –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Б—В–Њ—П—В—М. –Э–Њ —В—Л –ґ–µ–ї–∞–µ—И—М –і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–µ—А–µ–≤–Ї—Г –Ј–∞ –Њ–±–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞, –Є–±–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М, —З—В–Њ–±—Л –±—Л–ї–Є –Є –Љ–Є—А, –Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–∞—П —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М. –Х—Б–ї–Є –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–µ—И—М –Љ–∞–ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Є–µ, –Љ–Є—А –љ–µ —Г—Б—В–Њ–Є—В¬ї.
–ѓ—Е–≤–µ –Њ—В–і–∞–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–Ї–∞—П–≤—И–Є–Љ—Б—П –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –і–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ–і –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ—В –Є—Е –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ¬≠—Б—Г–і–Є—П, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є—Е —А—Г–Ї–Њ–є, –ї–Є–±–Њ –њ—А—П—З–∞ –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–Є–Љ —В—А–Њ–љ–Њ–Љ.
–Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б—В–Є—Е–∞ –Р–≤–≤–∞–Ї—Г–Љ, 2.3 (¬Ђ–Ш–±–Њ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –µ—Й–µ –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є... –Є —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–љ–Њ –Є –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї–Њ, –ґ–і–Є –µ–≥–Њ¬ї), —А–∞–≤–≤–Є–љ –Ш–Њ–љ–∞—Д–∞–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –±—Л –≤—Л –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: ¬Ђ–Ь—Л –ґ–і—С–Љ (–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞), –Њ–љ –ґ–µ –љ–µ –ґ–і—С—В¬ї, вАФ —В–Њ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Љ–µ–і–ї–Є—В, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Љ–Є–ї–Њ–≤–∞—В—М –≤–∞—Б¬ї (–Ш—Б–∞–є—П, 30.18)... –Э–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є –Њ–љ –ґ–і—С—В, –Є –Љ—Л –ґ–і—С–Љ, —З—В–Њ –Њ—В—Б—А–Њ—З–Є–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і? –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Њ—В—Б—А–Њ—З–Є–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г —А–∞–≤–≤–Є–љ–∞ –Ш–Њ—Е–∞–љ–∞–љ–∞: ¬Ђ–Ф–∞ –±—Г–і–µ—В —В–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї–µ–є, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є –С–Њ–ґ–µ, –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –љ–∞ —Б—В—Л–і –љ–∞—И –Є –љ–∞ –љ–∞—И–Є –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є—П. –Ю–±–ї–µ–Ї–Є—Б—М –≤ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ —В–≤–Њ—С, –Њ–±–ї–µ–Ї–Є—Б—М –≤ —Б–Є–ї—Г, –Њ–Ї—Г—В–∞–є—Б—П —В–≤–Њ–µ—О –ї—О–±—П—Й–µ–є –і–Њ–±—А–Њ—В–Њ–є –Є –њ—А–µ–њ–Њ—П—Б–∞–є—Б—П —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є –њ—Г—Б—В—М –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б–µ—А–і–µ—З–Є–µ –Є –і–Њ–±—А–Њ—В–∞ —В–≤–Њ—П –Є–і—Г—В –њ—А–µ–і —В–Њ–±–Њ—О¬ї. –Ч–і–µ—Б—М –Ј–≤—Г—З–Є—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є –њ—А–Є–Ј—Л–≤ –Ї –С–Њ–≥—Г вАФ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ–±—А—Л—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –і–∞–ґ–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –С–Њ–≥ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ: ¬Ђ–Ф–∞ –±—Г–і–µ—В –Ь–Њ—П –≤–Њ–ї—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ь–Њ—С –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ –њ–Њ–і–∞–≤–Є–ї–Њ –Ь–Њ–є –≥–љ–µ–≤, –∞ –Ь–Њ—С —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Њ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ь–Њ–Є–Љ–Є –∞—В—А–Є–±—Г—В–∞–Љ–Є¬ї, –≠—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ—В—Б—П —Б–ї–µ¬≠–і—Г—О—Й–Є–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–Љ:
¬Ђ–†–∞–≤–≤–Є–љ –Ш—И–Љ–∞—Н–ї—М, —Б—Л–љ –≠–ї–Є—И–Є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї: ¬Ђ–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л —П –≤–Њ—И—С–ї –≤ —Б–≤—П—В–∞—П —Б–≤—П—В—Л—Е, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ—Б–Ї—Г—А–Є—В—М —Д–Є–Љ–Є–∞–Љ, –Є —В–∞–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Р–Ї–∞—В—А–Є—Н–ї—П [24] –ѓ—Е–≤–µ –Ч–µ–±–∞–Њ—В–∞, –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ —В—А–Њ–љ–µ. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ: ¬Ђ–Ш–Љ–Љ–∞—Н–ї—М, —Б—Л–љ –Љ–Њ–є, –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є –Љ–µ–љ—П! –Ш —П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї: ¬Ђ–Ф–∞ –±—Г–і–µ—В —В–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї–µ–є, —З—В–Њ–±—Л –Ґ–≤–Њ—С –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ –њ–Њ–і–∞–≤–Є–ї–Њ –Ґ–≤–Њ–є –≥–љ–µ–≤, –∞ –Ґ–≤–Њ—С —Б–Њ—Б—В—А–∞¬≠–і–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Њ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ґ–≤–Њ–Є–Љ–Є –∞—В—А–Є–±—Г—В–∞–Љ–Є, –і–∞–±—Л –Ґ—Л –Љ–Њ–≥ –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б —В–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б –∞—В—А–Є–±—Г—В–Њ–Љ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П –Є –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—П!¬ї –Ш –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Љ–љ–µ –Ї–Є–≤–Ї–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л¬ї.
–Ш–Ј —Н—В–Є—Е —Ж–Є—В–∞—В –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј¬≠–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–≥–∞ –Ш–Њ–≤–∞. –Ю–љ —Б—В–∞–ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤–љ—Г—В—А–Є –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ–∞, –∞ –њ—А–Є –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–∞–±–±–∞–ї—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –ѓ–Ї–Њ–±–∞ –С–µ–Љ–µ. –Т –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В¬≠—Б—П —Б—Е–Њ–і–љ–∞—П –∞–Љ–±–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ вАФ –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–±–Њ–≤—М—О –С–Њ–≥–∞ –Є –µ–≥–Њ ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≥–љ–µ–≤–Њ–Љ¬ї, –≤ –Ї–Њ–µ–Љ –≤–µ—З–љ–Њ –≥–Њ—А–Є—В –Ы—О—Ж–Є—Д–µ—А.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П вАФ –љ–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞, –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є–Ј –µ—С —Г—В¬≠–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї¬≠–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–Є –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –Є–Љ –µ–≥–Њ [25]. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В¬≠–љ–Њ, —З—В–Њ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–µ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –∞–Ї—В–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є —З—В–Њ –±–µ–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ. –Э–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ—З—В–Њ —Б—В–Њ–ї—М —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –∞–Ї—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞. –У–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –њ—А–Њ—Й–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—И–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –і–∞–µ—В –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–µ—Й–∞–Љ –Є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—С—В —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —В–∞–Љ, –≥–і–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ.
–ѓ —Б—В–Њ–ї—М –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —Г–≥–ї—Г–±–Є–ї—Б—П –≤ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Г privatio boni –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞ –Ј–∞ —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А –Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –Ј–ї–∞ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Є –Ј–∞ —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А –њ–µ—Б—Б–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г. –Ф–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—П —А–∞–љ–љ–µ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Б –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –•—А–Є—Б—В—Г –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞. –Ш–±–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ ¬Ђ–≤–µ—А—Е–µ¬ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В ¬Ђ–љ–Є–Ј–∞¬ї, –Њ ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ¬ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В ¬Ђ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ¬ї, –Њ ¬Ђ–і–Њ–±—А–µ¬ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В ¬Ђ–Ј–ї–∞¬ї, –µ—Б–ї–Є –Њ–і–љ–Њ –љ–µ —В–∞–Ї –ґ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –і—А—Г–≥–Њ–µ? –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ –і—М—П–≤–Њ–ї –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Љ–Є—А –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–µ—Б–∞ –С–Њ–≥—Г: вАФ –Є, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М, –≤ —А–∞–љ–љ–Є—Е –Є—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е –°–∞—В–∞¬≠–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞—В—М –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ privatio boni. –£–ґ–µ —Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—О –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –Ј–ї–Њ –њ—А–µ–і—А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ¬≠–ґ–µ–љ–Є—О –і—Г—И–Є –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–і–µ–ї—П—В—М –µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ ¬Ђ–љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ј–ї–Њ —Г —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—В–µ–Ї–∞–µ—В –Є–Ј —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—П, –Њ–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –ї–Є—И—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–±–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–∞—П quantit√© n√©gligeable (–≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ—З—М (—Д—А–∞–љ—Ж.)), —З—В–Њ –Ј–ї–Њ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ —А–∞—Б—В–≤–Њ—А—П–µ—В¬≠—Б—П, –Ї–∞–Ї –і—Л–Љ. –Ы–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є–µ, –≤ –µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Ј–ї–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤—Б–µ—А—М—С–Ј: –љ–Њ —Н—В–Њ вАФ —Д–∞–Ї—В–Њ—А, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б–Љ–µ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ь—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Є–љ–∞—З–µ, –µ—Б–ї–Є –Ј–∞—Е–Њ—В–Є–Љ. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М вАФ –љ–µ—З—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–∞—О—Й–µ–µ, –Ї–∞–ґ—Г—Й–µ–µ¬≠—Б—П –љ–µ—А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Ї –љ–µ–є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —З–Є—Б—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є, –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞. –Ю—Б—В–∞—С—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –і–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Ї—Г –≤ –љ–∞—И–µ–є –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –љ–µ–і–Њ¬≠–Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –њ—Б–Є—Е–µ. –Я—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Њ–Ї —Н—В–Њ—В —В–µ–Љ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–µ–µ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ –≤ –њ—Б–Є—Е–µ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞¬≠–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–ї–∞. –Ю—В—Ж—Л –¶–µ—А–Ї–≤–Є –≤—А—П–і –ї–Є —Г—Б–њ–µ–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, –Ї–∞–Ї—Г—О —Д–∞—В–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М –Њ–љ–Є –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–ї–Є –і—Г—И–µ. –Э–∞–і–Њ –±—Л—В—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–ї–µ–њ—Л–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М¬≠–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Ј–ї–∞ –≤ –Љ–Є—А–µ. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞, –і–∞–±—Л –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є—П –Ј–ї–∞, –Є–±–Њ –±–µ–Ј —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–≥–Є–± –±—Л. –Х—Б–ї–Є —Б—В–Њ–ї—М –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –Ј–ї–∞ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞¬≠–µ—В—Б—П –і—Г—И–µ, —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Є–љ—Д–ї—П—Ж–Є—П вАФ —В–Њ –µ—Б—В—М –і–µ–Љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –љ–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –µ—Й—С —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —Г–≥—А–Њ–Ј—Г. –≠—В–Є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞, –њ—А–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ¬≠–Љ–µ–љ–Є, –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Н—А–µ –†—Л–±, –љ—Л–љ–µ –±–ї–Є–Ј—П—Й–µ–є—Б—П –Ї –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—О.
¬Ђ–≠—В–Њ вАФ –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В, –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞—О—Й–Є–є –Ю—В—Ж–∞ –Є –°—Л–љ–∞¬ї. ¬Ђ–Р –≤—Б—П–Ї–Є–є –і—Г—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і—Г–µ—В –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞,... —Н—В–Њ –і—Г—Е –∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –≤—Л —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–і—С—В... [1]¬ї –Р–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—Б–Є—Б –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ –Њ–ґ–Є–і–∞–љ–Є–µ–Љ —Г—Б—В—А–∞—И–∞—О—Й–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є–і—Г—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≤—А–µ–Љ—С–љ, –њ–µ—А–µ–і –≤–µ–љ—З–∞–љ–Є–µ–Љ –Р–≥–љ—Ж–∞. –≠—В–Њ —П—Б–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ anima christiana (–•—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –і—Г—И–∞ (–ї–∞—В.) - –Я—А–Є–Љ. –њ–µ—А.) —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В —В–≤—С—А–і—Л–Љ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В¬≠–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤—А–∞–≥–∞, –љ–Њ –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤—А–∞–≥ —Н—В–Њ—В –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —Г–Ј—Г—А–њ–Є—А—Г–µ—В –≤–ї–∞—Б—В—М.
–І–Є—В–∞—В–µ–ї—М –Љ–Њ–≥ –±—Л —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М: –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —П –≤–і—А—Г–≥ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—О –Ј–і–µ—Б—М –Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Є –µ–≥–Њ –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–µ вАФ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–µ? –†–∞—Б—Б—Г–ґ¬≠–і–µ–љ–Є—П –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–Њ–і—П—В –љ–∞—Б –Ї –•—А–Є—Б—В—Г, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ–љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Б—С –µ—Й—С –ґ–Є–≤—Л–Љ –Љ–Є—Д–Њ–Љ –љ–∞—И–µ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л. –Ю–љ вАФ –љ–∞—И –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є –≥–µ—А–Њ–є, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–∞—О—Й–Є–є –Љ–Є—Д –Њ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Я–µ—А–≤–Њ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Р–і–∞–Љ–µ. –Ю–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Ж–µ–љ—В—А —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ь–∞–љ–і–∞–ї—Л, –Њ–љ вАФ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Ґ–µ—В—А–∞–Љ–Њ—А—Д–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М —З–µ—В—Л—А—С—Е —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ –µ–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є—Б—В–Њ–≤, —Г–њ–Њ–і–Њ–±–ї—П—О—Й–Є—Е—Б—П —З–µ—В—Л¬≠—А—С–Љ –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞–Љ –µ–≥–Њ —В—А–Њ–љ–∞. –Ю–љ –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–µ—В –≤ –љ–∞—Б, –Љ—Л вАФ –≤ –љ—С–Љ. –Х–≥–Њ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Є–µ вАФ –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–µ–є—И–∞—П –ґ–µ–Љ—З—Г–ґ–Є–љ–∞, –Ј–∞—А—Л—В–Њ–µ –≤ –њ–Њ–ї–µ —Б–Њ–Ї—А–Њ–≤–Є—Й–µ, –≥–Њ—А—З–Є—З–љ–Њ–µ –Ј–µ—А–љ–Њ, –Є–Ј –Ї–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—А–∞—Б—В–µ—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –і—А–µ–≤–Њ, –Є –Њ–љ –ґ–µ вАФ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–є –≥—А–∞–і [2]. –Ъ–∞–Ї –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –љ–∞—Б, —В–∞–Ї –ґ–µ –≤ –љ–∞—Б –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Є –µ–≥–Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ [3].
–Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ—Л—Е –Ј–і–µ—Б—М –Њ–±—Й–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Б—Б—Л–ї–Њ–Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —А–µ–њ—А–µ–Ј–µ–љ—В—Г–µ—В –∞—А—Е–µ—В–Є–њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є [4]. –Ш–Љ –њ—А–µ–і—Б¬≠—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –ґ–µ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, —Б–ї–∞–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, —Б—Л–љ–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ sine macula peccati, –љ–µ–Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–Љ. –Ю–љ, –Ї–∞–Ї Adam secundus (–Т—В–Њ—А–Њ–є –Р–і–∞–Љ (–ї–∞—В.)), —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–µ—А–≤–Њ–Љ—Г –Р–і–∞–Љ—Г –і–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–њ–∞–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ—В –µ—Й—С –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є —З–Є—Б—В—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ґ–µ—А—В—Г–ї–ї–Є–∞–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ш—В–∞–Ї, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –љ–∞–і–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, вАФ —В–Њ, —З—В–Њ –і—Г—Е —З–µ–ї–Њ¬≠–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–µ–µ—В —В–µ –ґ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ –Є –С–Њ–≥ –Є–Љ–µ–µ—В, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ —В–∞–Ї–Є–µ –ґ–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л –Њ–љ–Є —Г –С–Њ–≥–∞¬ї. –Ю—А–Є–≥–µ–љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —П—Б–љ–µ–µ: imago Dei, –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В¬≠–ї—С–љ–љ—Л–є –≤ –і—Г—И–µ, –∞ –љ–µ –≤ —В–µ–ї–µ [5], –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–∞, ¬Ђ–Є–±–Њ –Љ–Њ—П –і—Г—И–∞ вАФ –љ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞, –љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –љ–∞–њ–Њ–і¬≠–Њ–±–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї [6]. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –ґ–µ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ¬≠–љ—Л, –µ—Б—В—М –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є [7], –њ–Њ —З—М–µ–Љ—Г –њ–Њ–і–Њ–±–Є—О —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ –љ–∞—И –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, вАФ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–є, –±–µ—Б—В–µ¬≠–ї–µ—Б–љ—Л–є, –љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ—Л–є –Є –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–є. –Ю–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ –≤ –љ–∞—Б —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ ¬Ђprudentia, iustitia, moderatio, sapientia et disciplina¬ї (–С–ї–∞–≥–Њ—А–∞–Ј—Г–Љ–Є–µ, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М, —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –і–Њ–±—А–Њ–і–µ—В–µ–ї—М, –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М –Є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞ (–ї–∞—В.)).
–°–≤—П—В–Њ–є –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –С–Њ–≥–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ–Љ–µ—Й—С–љ–љ—Л–Љ –≤–љ—Г—В—А—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–Љ –µ–Љ—Г —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–њ–Њ–і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –С–Њ–≥—Г [8]. –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–µ —В–µ–ї–µ—Б–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, a anima rationalls (–†–∞–Ј—Г–Љ–љ–∞—П –і—Г—И–∞ (–ї–∞—В.)) –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ—В –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е.
¬Ђ–Ю–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ вАФ –≤–љ—Г—В—А–Є, –љ–µ –≤ —В–µ–ї–µ... —В–∞–Љ, –≥–і–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, —В–∞–Љ, –≥–і–µ —А–∞–Ј—Г–Љ, —В–∞–Љ, –≥–і–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–≤¬≠–і—Л, —В–∞–Љ –С–Њ–≥ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–≤–Њ–є –Њ–±—А–∞–Ј¬ї. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М —Б–µ–±–µ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г –С–Њ–ґ—М–µ–Љ—Г –љ–Є –≤ —З—С–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–љ–Є—П: ¬Ђ... –љ–Њ –≥–і–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г –С–Њ–≥–∞, —В–∞–Љ –Њ–љ –≤–Є–і–Є—В –≤ —Б–µ–±–µ –љ–µ—З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ, —З–µ–Љ –і–∞–і–µ–љ–Њ —Б–Ї–Њ—В—Г¬ї. –Ю—В—Б—О–і–∞ —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –С–Њ–ґ–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Є–і–µ–љ—В–Є—З–µ–љ anima rationalis. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –µ—Б—В—М –≤—Л—Б—И–Є–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, homo coelistis (–Э–µ–±–µ—Б–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (–ї–∞—В.)) –°–≤—П—В–Њ–≥–Њ –Я–∞–≤–ї–∞. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Р–і–∞–Љ—Г –і–Њ –≥—А–µ—Е–Њ–њ–∞–і–µ–љ–Є—П, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ [9], —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–µ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –°–≤—П—В—Л–Љ –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–Њ–Љ. ¬Ђ–°–ї–Њ–≤–Њ, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ, вАФ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –љ–∞ —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –±—Л –≤—Б—О —Ж–µ–ї–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –і—Г—И—Г, –Є —В–µ–ї–Њ. –Х—Б–ї–Є –ґ–µ —Е–Њ—З–µ—И—М, —З—В–Њ–±—Л —П –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —В–Њ—З–љ–µ–µ - –Є–±–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–Ї–Њ—В –Є–Љ–µ–µ—В –і—Г—И—Г –Є —В–µ–ї–Њ вАФ —В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –≥–Њ–≤–Њ—А—О ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–ї–Њ—В—М¬ї, —П –Є–Љ–µ—О –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–±–ї—С–Ї—Б—П —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ¬≠—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г¬ї.
–Ю–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –љ–µ –±—Л–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ –≥—А–µ—Е–Њ–њ–∞¬≠–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –љ–Њ –±—Л–ї –ї–Є—И—М –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і—С–љ –Є –Є—Б–Ї–∞–ґ—С–љ (¬Ђ–і–µ¬≠—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ¬ї), –Є –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ –С–Њ–ґ—М–µ–є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—В—М—О. –°—Д–µ—А–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П descensus ad inferios, —Б–Њ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –і—Г—И–Є –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ –∞–і, –≥–і–µ –µ–≥–Њ –і–µ–ї–Њ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ —Г–Љ–µ—А—И–Є—Е. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–Њ–Љ –Ј–і–µ—Б—М —Б–ї—Г–ґ–Є—В –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є—П –Ї–Њ–ї¬≠–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–∞—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ¬≠–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є. –°–≤—П—В–Њ–є –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–∞—И–µ–є —Ж–µ–ї—М—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –љ–∞—И–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ, –љ–Њ –љ–∞—И–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ –µ—Б—В—М –•—А–Є—Б—В–Њ—Б¬ї, –Є–±–Њ –Њ–љ –µ—Б—В—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є. –Я–Њ —Н—В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ –µ–≥–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В ¬Ђ–¶–∞—А—С–Љ¬ї. –Х–≥–Њ –љ–µ–≤–µ—Б—В–Њ–є (sponsa) –≤—Л¬≠—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –і—Г—И–∞, ¬Ђ–≤ —Б–Њ–Ї—А—Л—В–Њ–Љ –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—С–љ–љ–∞—П —Б–Њ –°–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б—Г—В—М –і–≤–∞ –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—В–Є¬ї, –Є —Н—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–Љ—Г –±—А–∞–Ї—Г –•—А–Є—Б—В–∞ –Є –¶–µ—А–Ї–≤–Є [10]. –Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б –њ—А–Њ–і–Њ–ї¬≠–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–є –Є–µ—А–Њ–≥–∞–Љ–Є–Є –≤ –і–Њ–≥–Љ–∞—В–∞—Е –Є —А–Є—В—Г–∞–ї–∞—Е –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –і–∞–љ–љ—Л–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Љ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–≤–Є–ї—Б—П –≤ –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б¬≠—В–µ–є, –Є–ї–Є ¬Ђ—Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–≤–∞–і—М–±—Г¬ї, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Њ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ–Њ–љ—П—В–Є—О lapis philosophorum (–§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М (–ї–∞—В.)), –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–Љ—Г —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є вАФ –њ–Њ–љ—П—В–Є—О —Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П.
–Ю–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ, –Є—Б–Ї–∞–ґ—С–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–≤–Њ—А–Њ–і–љ—Л–Љ –≥—А–µ¬≠—Е–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М ¬Ђ–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ¬ї [11] —Б –С–Њ–ґ—М–µ–є –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б –†–Є–Љ–ї., 12,2: ¬Ђ–Ш –љ–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–є—В–µ—Б—М —Б –≤–µ–Ї–Њ–Љ —Б–Є–Љ, –љ–Њ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–є—В–µ—Б—М –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–Љ–∞ –≤–∞—И–µ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤–∞–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –≤–Њ–ї—П –С–Њ–ґ–Є—П...¬ї –Ю–±—А–∞–Ј—Л —Ж–µ–ї–Њ—Б—В¬≠–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Њ–і—Г—Ж–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤ —Е–Њ–і–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б—Е–Њ–і–љ—Л–Љ–Є —Б —Н—В–Є–Љ–Є ¬Ђ–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ¬≠–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є¬ї –∞–њ—А–Є–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ (–Љ–∞–љ–і–∞–ї—Л) [12]. –Ъ–∞–Ї —П —Г–ґ–µ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞–ї, —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В¬≠–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–Њ—В–ї–Є—З–Є–Љ—Л –Њ—В –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–≥–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ metamorfouvsqe (¬Ђ–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–є—В–µ—Б—М¬ї) –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–Љ —В–µ–Ї—Б—В–µ –≤—Л—И–µ–њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–є —Ж–Є—В–∞—В—Л ¬Ђ–њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ¬ї, (anakainwsiz reformatio) —Г–Љ–∞ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–µ –Ї–∞–Ї –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Ї–∞–Ї –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П, –∞–њ–Њ–Ї–∞—В–∞—Б—В–∞—Б–Є—Б. –≠—В–Њ –≤ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ—Б–Є—Е–Њ¬≠–ї–Њ–≥–Є–Є –Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞—И–љ–µ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є [13], –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В—М –Є–Ј –њ–Њ–ї—П –Ј—А–µ–љ–Є—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–ї—С–љ¬≠–љ–Њ–µ –љ–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞—Й—С–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –љ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–µ—В –µ–≥–Њ –≤ —Д–Є–≥—Г—А–µ –•—А–Є—Б—В–∞. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–Є–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П¬ї –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞—С—В¬≠—Б—П –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Б –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Ю–љ–Њ –≤–ї–µ—З—С—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є—О, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ –≤–љ—Г—В—А–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ—А—М–±–Њ–є –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Њ–≤, –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е, –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Б–ї—Г—З–∞–є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ вАФ –Ї–Њ–≥–і–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–∞ —В–µ—Е –ґ–µ –њ—А–∞–≤–∞—Е, —З—В–Њ –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ, –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—С—В —Б–≤–Њ—О –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ —Б –Є—Б–Ї—Г—Б¬≠—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ, —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є–Љ –ґ–Є–Ј–љ—М –Є–љ—Б—В–Є–љ–Ї—В–Њ–≤, —В–∞–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ —Б–њ–Њ¬≠—Б–Њ–±–љ–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ—П—В—М –≤—А–µ–і, –і–∞ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ.
–Э–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–∞—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ¬≠—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П imago Dei, –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –•—А–Є—Б—В–µ, –Њ–Ј–љ–∞¬≠—З–∞–ї–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—Й—Г—О —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –≤–Ї–ї—О—З–∞–≤—И—Г—О –≤ —Б–µ–±—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –•—А–Є—Б—В—Г –Ї–∞–Ї —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Г –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—С—В —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ¬≠–љ–Њ–Љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –µ–≥–Њ —Б—Д–µ—А—Г –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є—В —В—С–Љ–љ–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞, —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ—П–µ–Љ–∞—П –Є –≤—Л–і–µ¬≠–ї—П–µ–Љ–∞—П –≤ —Б–∞—В–∞–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞. –•–Њ—В—П –Є—Б–Ї–ї—О¬≠—З–µ–љ–Є–µ —Б–Є–ї—Л –Ј–ї–∞ –±—Л–ї–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї–Њ —Б–µ–±–µ –Њ—В—З—С—В, –њ–Њ—В–µ—А–Є —Б–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї —Г—В—А–∞—В–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –Є–ї–ї—О–Ј–Њ—А–љ–Њ–є —В–µ–љ–Є, –Є–±–Њ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–∞ privatio boni (–С–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —В–µ—А–Љ–Є–љ: ¬Ђ–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–±—А–∞¬ї, –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ вАФ ¬Ђ–Њ—В—К—П—В–Є–µ –і–Њ–±—А–∞¬ї (–ї–∞—В). –°–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –і–∞–ї–µ–µ –Ѓ–љ–≥–Њ–Љ —Ж–Є—В–∞—В —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г ¬Ђ—Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ¬ї –і–Њ–±—А–∞, –∞ –љ–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ, —Е–Њ—В—П –≤ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–Є –њ—А–Є–љ—П—В –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і ¬Ђ–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–±—А–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ—С–љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—З–Є–Ї–Њ–Љ. - –Я—А–Є–Љ. –њ–µ—А., —А–µ–і.), –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–∞—П –Ю—А–Є–≥–µ–љ–Њ–Љ, –≥–ї–∞—Б–Є–ї–∞, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞ –Є, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Я–Њ —Г—З–µ–љ–Є—О –¶–µ—А–Ї–≤–Є, –Ј–ї–Њ - –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ ¬Ђ—Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞¬ї. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –і–Њ–њ—Г¬≠—Й–µ–љ–Є–µ –≤–ї–µ–Ї–ї–Њ –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ: ¬Ђomne bonum a Deo, omne malum ab homine¬ї (¬Ђ–Т—Б–µ –і–Њ–±—А–Њ –Њ—В –С–Њ–≥–∞, –≤—Б–µ –Ј–ї–Њ –Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞¬ї (–ї–∞—В.)) –Х—Й–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤—Л–≤–Њ¬≠–і–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Ј–ї–∞ –≤ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ—В–µ—Б—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е —Б–µ–Ї—В–∞—Е.
–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–µ privatio boni —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ј–∞¬≠–ї–Њ—Б—М, –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –•—А–Є—Б—В–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ј–ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б –љ–Є–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—И—М—Б—П –≤ –њ–ї–∞–љ–µ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —В—А–µ–±—Г–µ—В, —З—В–Њ–±—Л –µ–≥–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г–±¬≠—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љo вАФ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ–±—А–∞. –У–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Є, –љ–∞ —З—М—О –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї –Њ–њ—Л—В –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–є, –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ –Ј–ї–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї, –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е, —З–µ–Љ —Г –Ю—В—Ж–Њ–≤ –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –њ–Њ–ї–Њ¬≠–ґ–µ–љ–Є–є –Є—Е —Г—З–µ–љ–Є—П вАФ —В–Њ, —З—В–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б ¬Ђ–Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї –Њ—В —Б–µ–±—П —В–µ–љ—М¬ї [14]. –Х—Б–ї–Є –Љ—Л –њ—А–Є–і–∞–і–Є–Љ —Н—В–Њ–є —В–Њ—З–Ї–µ –Ј—А–µ–љ–Є—П —В—Г –≤–µ—Б–Њ¬≠–Љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–љ–∞ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В, —В–Њ –±–µ–Ј —В—А—Г–і–∞ —Г–Ј–љ–∞–µ–Љ –≤ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–µ –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М. –Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Њ–±—А–∞–Ј –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Є—В–∞—В–Њ—А–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є –•—А–Є—Б—В–∞. –Ю–љ вАФ –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–є antimimon pneuma, –њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞—В–µ–ї—М¬≠–љ—Л–є –і—Г—Е –Ј–ї–∞, –Є–і—Г—Й–Є–є –њ–Њ —Б—В–Њ–њ–∞–Љ –•—А–Є—Б—В–∞, –Ї–∞–Ї —В–µ–љ—М —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞ —В–µ–ї–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –Ї —П—А–Ї–Њ–є, –љ–Њ –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–є —Д–Є–≥—Г—А–µ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, вАФ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ, —Б–ї–µ–і—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Б—В—А–µ¬≠—З–∞—О—В—Б—П –і–∞–ґ–µ –≤ –Э–Њ–≤–Њ–Љ –Ч–∞–≤–µ—В–µ, вАФ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –µ–Љ—Г –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є —Г–і–µ–ї—П—В—М –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ.
–Х—Б–ї–Є –Љ—Л –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —Д–Є–≥—Г—А—Г –•—А–Є—Б—В–∞ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥ –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞—Ж–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, —В–Њ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —В–µ–љ–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —В—С–Љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ —Б—В–Њ–Є—В —Б—Г–і–Є—В—М —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–њ—Л—В–∞, —Б–≤–µ—В –Є —В–µ–љ—М —А–∞—Б–њ¬≠—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ —Б—В–Њ–ї—М —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Ж–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞—С—В –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –≤ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ—А–∞—З–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —Б–∞¬≠–Љ–Њ—Б—В–Є, –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –≤—Л–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Є–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –∞ –≤ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ –≤—Л—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –≤ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞—Е –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —З–µ—В–≤–µ—А–Є—Ж–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є –∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ–Є—П–Љ–Є, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М –±–µ–Ј —В–µ–љ–Є, –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —Б–≤–µ—В–ї–Њ–є —Д–Є–≥—Г¬≠—А–Њ–є, –Є–±–Њ –±–µ–Ј –љ–µ—С —Н—В–∞ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –ї–Є—И–µ–љ–∞ –њ–ї–Њ—В–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–љ—Г—В—А–Є —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–µ—В –Є —В–µ–љ—М –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ–µ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ¬≠—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ –±–µ–Ј–љ–∞–і—С–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—З–ї–µ–љ—С–љ –љ–∞ –і–≤–µ –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –≤–µ–і—С—В –Ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г вАФ –±–µ—Б–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–љ–Њ–Љ—Г –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—О —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В –њ—Л–ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –Њ—Б—Г–ґ–і—С–љ–љ—Л—Е.
–Ф–ї—П –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ¬≠—Б—В–≤—Г, –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–Љ –Њ—А–µ—И–Ї–Њ–Љ. –Ю–љ–∞ вАФ –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–≤–µ—В–љ—Л–є —Г–і–∞—А –і—М—П–≤–Њ–ї–∞, —Б–њ—А–Њ–≤–Њ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –Т–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ; –Є–±–Њ –і—М—П–≤–Њ–ї —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ–Њ–ї–љ—Л–є —А–Њ—Б—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –•—А–Є—Б—В–∞, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –С–Њ–≥–∞, –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ¬≠–≤–µ–љ–Є—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –µ—Й—С –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ъ–љ–Є–≥–Є –Ш–Њ–≤–∞ –Њ–љ –±—Л–ї –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б—Л–љ–Њ–≤ –С–Њ–ґ—М–Є—Е –Є —Д–∞–Љ–Є–ї—М—П—А–љ–Є—З–∞–ї —Б –ѓ—Е–≤–µ [15]. –° –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б —П—Б–µ–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ —Б—В–Њ–ї—М –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ¬≠–љ–∞ –Є –љ–µ–Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ–љ–∞, —З—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ —Б –љ–µ–є –≤—Б—С –њ—А–Њ—З–µ–µ —В–µ–Љ–љ–µ–µ—В. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Њ–љ–∞ –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–∞ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Љ —Б–Њ–≤–µ—А¬≠—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В—А–µ–±—Г–µ—В –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –і–ї—П –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—П. –≠—В–∞ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞¬≠—О—Й–∞—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–∞ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є —Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ –і–≤—Г—Е —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П—Е –С–Њ–≥–∞, —Б—В–∞—А—И–Є–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Є–Љ—П –°–∞—В–∞–љ–∞–Є–ї [16]. –Я—А–Є—Е–Њ–і –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞ вАФ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ, –∞ –љ–µ–њ—А–µ–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–љ, –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –љ–µ –≤–µ–і–∞–ї –∞–≤—В–Њ—А –Ш–Њ–∞–љ–љ–Њ–≤—Л—Е –Я–Њ—Б¬≠–ї–∞–љ–Є–є; —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, —Н—В–Њ—В –Ј–∞–Ї–Њ–љ –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –µ–Љ—Г –љ–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П—Й—Г—О —Н–љ–∞–љ—В–Є–Њ–і—А–Њ–Љ–Є—О. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ–љ –њ–Є—Б–∞–ї —В–∞–Ї, –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Ј–љ–∞–ї –Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, —Е–Њ—В—П –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –±—Л—В—М —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ –љ–µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –µ–Љ—Г –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В–Ї—А–Њ¬≠–≤–µ–љ–Є–µ–Љ. –Т —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤–ї–µ—З—С—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –∞–Ї—Ж–µ–љ—В—Г–∞—Ж–Є—О –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П –Ї –љ–µ–Љ—Г, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—П –љ–∞–њ—А—П–ґ—С–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–µ—А—Е–Њ–Љ –Є –љ–Є–Ј–Њ–Љ.
–≠—В–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ—Л –і–µ–ї–∞–µ–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –≤–љ—Г—В—А–Є —Б—Д–µ—А—Л —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–Є. –Э–Є–Ї—В–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –µ—Й–µ –љ–µ —Г—З—С–ї —Д–∞–Ї—В–Њ—А —Д–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–µ–і—А–∞—Б–њ–Њ¬≠–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞–Ї–ї—О—З—С–љ–љ–Њ–є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –Ї –Є–љ–≤–µ—А—Б–Є–Є –µ—С –і—Г—Е–∞ вАФ –љ–µ –њ–Њ –љ–µ—П—Б–љ–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ. –Ш–і–µ–∞–ї –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—В—А–µ–Љ—П—Й–µ–є—Б—П –і–Њ—Б—В–Є—З—М –≤—Л—Б–Њ—В, –Њ–±—А–µ—З—С–љ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–Њ —Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞¬≠–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–Ї–Њ¬≠—А–Є—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є—О –Є –Њ–≤–ї–∞–і–µ—В—М –Љ–Є—А–Њ–Љ. –Я–µ—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤¬≠–ї–µ–љ–Є–Є —Б—В–∞–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ–є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –†–µ–љ–µ—Б—Б–∞–љ—Б–∞. –Ф–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В ¬Ђ–≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ¬ї –Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—Е–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –і—Г—Е —Н—В–Њ—В —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Љ–∞—Б–Ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є; –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П –і—Г—Е –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—Г—Е —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В¬≠–≤–∞ –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–≤–∞–ї —Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ —П–Ј—Л—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –Ј–∞¬≠–Љ–µ–љ—П—П –љ–µ–±–µ—Б–љ—Г—О —Ж–µ–ї—М вАФ –Ј–µ–Љ–љ–Њ–є, –∞ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М –≥–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П вАФ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є (–≤–Ї–ї—О—З–∞—П –њ—Г—В–µ¬≠—И–µ—Б—В–≤–Є—П –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є—О –Љ–Є—А–∞ –Є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л). –Я–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ, –≤—Л–Ј–≤–∞–≤—И–µ–µ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О, –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –Љ–Є—А–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ ¬Ђ–∞–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є¬ї, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О¬≠—Й–µ–Љ —А–∞–љ–љ–µ—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Ж–∞ –≤—А–µ–Љ—С–љ¬ї.
–Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –і–Њ —В–Њ–≥–Њ —Б–Ї—А—Л—В—Л–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ —Б—В–∞–ї–Є —П–≤–љ—Л–Љ–Є, –Є–ї–Є –ґ–µ –Љ–∞—П—В–љ–Є–Ї, —А–µ–Ј–Ї–Њ –Ї–∞—З–љ—Г–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –Њ–і–љ—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г, —В–µ–њ–µ—А—М —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є¬≠—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –У–Њ–≤–Њ¬≠—А—П—В, –љ–Є –Њ–і–љ–Њ –і–µ—А–µ–≤–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –і–Њ—А–∞—Б—В–Є –і–Њ —А–∞—П, –µ—Б–ї–Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ—А–љ–Є –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В –∞–і–∞. –Ф–≤—Г–Ј–љ–∞—З–љ–Њ—Б—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Љ–∞—П—В–љ–Є–Ї–∞. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–µ –Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–љ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Б –°–∞—В–∞–љ–Њ–є, –Т—А–∞–≥–Њ–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤¬≠–ї—П—О—Й–Є–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–є –њ–Њ–ї—О—Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –љ–∞–њ—А—П–ґ—С–љ–љ–Њ—Б¬≠—В–Є, –њ—А–µ–і–≤–µ—Й–∞–µ–Љ—Л–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞, –≤–љ—Г—В—А–Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –њ—Б–Є—Е–µ, —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞. –°–∞—В–∞–љ–∞ –µ—Б—В—М ¬Ђmisterium iniquitatis¬ї (¬Ђ–Ґ–∞–є–љ–∞ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є¬ї (–ї–∞—В.)), —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–Є–є ¬Ђsol institiae¬ї (¬Ђ–°–Њ–ї–љ—Ж–µ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є¬ї (–ї–∞—В.)), —В–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ—А–∞–Ј–ї—Г—З–љ–Њ, –Ї–∞–Ї —В–µ–љ—М —Б–Њ–њ—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–≤–µ—В—Г –љ–∞ –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ –њ—Г—В—П—Е; –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≠–±–Є–Њ–љ–Є—В—Л [17] –Є –≠–≤—Е–Є—В—Л [18] —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ –±—А–∞—В –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –≤–µ—А–љ—Л–Љ –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –±—А–∞—В—Г. –Ю–±–∞ –Њ–љ–Є –±–Њ—А—О—В—Б—П –Ј–∞ —Ж–∞—А—Б—В¬≠–≤–Њ: –Њ–і–Є–љ вАФ –Ј–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ, –≤—В–Њ—А–Њ–є вАФ –Ј–∞ ¬Ђprincipatus huius mundi¬ї (¬Ђ–У–ї–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ —Б–µ–Љ¬ї (–ї–∞—В.)). –Ь—Л —Б–ї—Л—И–Є–Љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ ¬Ђ—В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В¬≠–љ–µ–Љ¬ї —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ –Є ¬Ђ–њ—А–Є—Е–Њ–і–µ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞¬ї, –Ј–≤—Г—З–∞—Й–Є–µ —В–∞–Ї, –±—Г–і—В–Њ –±—Л –і–≤–Њ–µ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –њ–Њ–і–µ–ї–Є–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –Љ–Є—А—Л –Є —Н–њ–Њ—Е–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Б—В—А–µ—З–∞ —Б –°–∞—В–∞–љ–Њ–є –±—Л–ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –і–µ–ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞—П: –Њ–љ–∞ вАФ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Ј–≤–µ–љ–Њ –≤ —Ж–µ–њ–Є.
–Ъ–∞–Ї –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –±–Њ–≥–Њ–≤ –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ–±—Л –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ –∞–љ–Є–Љ—Л/–∞–љ–Є–Љ—Г—Б–∞, —В–∞–Ї –Є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –і–ї—П –љ–∞—Б вАФ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–∞—П –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –Є –µ—С –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —А–µ—З—М –Є–і—С—В –љ–µ –Њ–± –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –Њ —З—С–Љ-—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –Є –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ per se, –Ј–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ –Њ—Й—Г—В–Є—В—М —Б–≤–Њ—О –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –µ—С —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ. –Ш –≤—Б—С –ґ–µ, —Е–Њ—В—П –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л –•—А–Є—Б—В–∞ (–µ–і–Є–љ–Њ—Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М —Б –Ю—В—Ж–Њ–Љ, —Б–Њ–≤–µ—З–љ–Њ—Б—В—М –µ–Љ—Г –Є —Б—Л–љ–Њ–≤–љ–Є–µ —Б –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –љ–µ–њ–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–µ –Ј–∞—З–∞—В–Є–µ, —А–∞—Б–њ—П—В–Є–µ, –Р–≥–љ–µ—Ж, –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –Љ–µ–ґ –і–≤—Г—Е –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Х–і–Є–љ–Њ–µ, —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–≤—И–µ–µ—Б—П –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ, –Є —В.–њ.) –і–µ–ї–∞—О—В –µ–≥–Њ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–і –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г–≥–ї–Њ–Љ –Ј—А–µ–љ–Є—П –Њ–љ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г¬≠—О—Й–Є–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞. –Т—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ –њ—А–Њ—П–≤¬≠–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є вАФ —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞—Ж–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ—С–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ –µ—С —В–µ–Љ–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В. –Ю–±–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—Л —Б —В–µ–Љ –ґ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ —Г –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—П, —А–∞—Б–њ—П—В–Њ–≥–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П —А–∞–Ј–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –љ–∞–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –≤–µ–і—С—В –Ї–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О¬≠—Й–µ–Љ—Г –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Є –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ —А–∞—Б–њ—П—В–Є–µ —Н–≥–Њ, –µ–≥–Њ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Ј–≤–µ—И–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є [19]. –Х—Б—В–µ—Б¬≠—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є —А–µ—З–Є –Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —Н–≥–Њ, –Є–±–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї –±—Л —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ —Д–Њ–Ї—Г—Б —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞¬≠—В–Њ–Љ —Б—В–∞–ї–∞ –±—Л –њ–Њ–ї–љ–∞—П –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ю—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ–Є–µ —Н–≥–Њ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В –ї–Є—И—М —В–µ –≤—Л—Б—И–Є–µ, —Н–Ї—Б—В—А–µ¬≠–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П, —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–Њ–≤ –і–Њ–ї–≥–∞. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Н–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–Њ–ї–Є —Б—В—А–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—П, –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —А–µ—И–∞—О—Й–µ–≥–Њ, –љ–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї–∞–њ–Є—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П —А–µ—И–µ–љ–Є—О. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –Ј–∞ ¬Ђ–≥–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤—Л—Б—И–µ–є –Є –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О, –њ—А–µ–і–µ–ї—Л –Ї–Њ–µ–є –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –≤–µ–і–Њ–Љ—Л. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –±—Г–і–µ—В —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є –≤ —Б–≤–µ—В–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –µ–≥–Њ —Б —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ—Б—В—М—О, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –љ–∞—И–Є —Б–ї–∞–±—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є, вАФ –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б вАФ –ї–Є—И—С–љ –µ—С –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —В–µ–љ–Є.
–Я—А–Є—З–Є–љ–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–µ "Summum –Т–Њ–њ–Є—В". –Ш—А–Є–љ–µ–є, –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞—П –≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Њ–≤, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Є–Ј –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П ¬Ђ—Б–≤–µ—В–∞ –Є—Е –Ю—В—Ж–∞¬ї –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –і–µ–ї–∞—В—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Н—В–Њ—В —Б–≤–µ—В ¬Ђ–љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ –њ—А–Њ—Б–≤–µ—В–Є—В—М –Є –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —Б–Њ–±–Њ–є –і–∞–ґ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–µ–≥–Њ¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М —В–µ–љ—М –Є –њ—Г—Б—В–Њ—В—Г. –Х–Љ—Г –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–Ј–Њ—А–љ—Л–Љ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –Ї–ї–µ–≤–µ—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –њ—А–µ–і–њ–Њ¬≠–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –њ–ї–µ—А–Њ–Љ—Л —Б–≤–µ—В–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М ¬Ђ—В—С–Љ–љ–∞—П –Є –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ—Г—Б—В–Њ—В–∞¬ї. –Ф–ї—П —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–Є–љ–∞ –љ–Є –С–Њ–≥, –љ–Є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–Њ–Љ; –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ–±–ї–∞–і–∞—В—М –µ–і–Є–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ. –Ґ–∞–Ї –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –љ–∞—И–Є—Е –і–љ–µ–є. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–≥–і–∞, —В–∞–Ї (–Ј–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –њ–Њ—Е–≤–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є—Б–Ї–ї—О¬≠—З–µ–љ–Є—П–Љ–Є) –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –Љ–∞–ї–Њ –Ї–Њ–Љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ–љ–∞–і–µ—П–љ–љ—Л–є —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—В–Є–≤–љ—Л–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В –њ–Њ–і–≤–Є–≥–љ—Г–ї –µ—Й—С –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –љ–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞, –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–≤—И–µ–µ –µ–≥–Њ –±—Л—В—М "Summum –Т–Њ–њ–Є—В". –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –њ—А–Њ¬≠—В–µ—Б—В–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –Є–Љ–µ–ї –љ–µ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Г—В–≤–µ—А–ґ¬≠–і–∞—В—М, —З—В–Њ ¬Ђ–С–Њ–≥ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–±—А¬ї. –ѓ—Е–≤–µ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–Љ–Њ–≥ –±—Л –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞—В—М –µ–Љ—Г –њ–∞—А—Г —Г—А–Њ–Ї–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ, –µ—Б–ї–Є —Б–∞–Љ –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—П–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –С–Њ–≥–∞. –Я–Њ–і–Њ–±¬≠–љ–∞—П –љ–∞—Б–Є–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Г–Ј—Г—А–њ–∞—Ж–Є—П "Summum –Т–Њ–њ–Є—В", –µ—Б—В–µ—Б¬≠—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–µ–±–µ—Б–њ—А–Є—З–Є–љ–љ–∞, –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –µ—С –ї–µ–ґ–Є—В –≥–ї—Г¬≠–±–Њ–Ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ (–≤–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —П –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г). –Э–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–Є –љ–∞ —З—В–Њ, –Њ–љ–∞ вАФ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З¬≠–љ–Є–Ї –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є privatio boni, —Б–≤–Њ–і—П—Й–µ–є –Ї –љ—Г–ї—О —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞; —Н—В–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—П –Р—А–µ–Њ–њ–∞–≥–Є—В–∞, –∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В —Г –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞.
–°–∞–Љ—Л–є —А–∞–љ–љ–Є–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И—Г—О –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ—Г ¬ЂOmne bonum a Deu, omne malum ab homine¬ї вАФ –Ґ–∞—В–Є–∞–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞—П–≤–ї—П¬≠–µ—В: ¬Ђ–Э–Є—З—В–Њ –Ј–ї–Њ–µ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –С–Њ–≥–Њ–Љ; –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –≤—Б—С –Ј–ї–Њ¬ї. –≠—В—Г —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –§–µ–Њ—Д–Є–ї –Р–љ—В–Є–Њ—Е–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤ —В—А–∞–Ї—В–∞—В–µ ¬ЂAd Autolucum¬ї.
–Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ:
¬Ђ–Т–∞–Љ –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–Є —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –≤ –С–Њ–≥–µ-—В–≤–Њ—А—Ж–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬≠–≤–∞–љ–Є—П –Ј–ї–∞, –љ–Є –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —Г –Ј–ї–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї–∞—П-–ї–Є–±–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П (idian uepostain toue kakoue eilnaiw). –Ш–±–Њ –Ј–ї–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В–∞–Ї, –Ї–∞–Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –ґ–Є–≤–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Є –Љ—Л –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≤–Є–і–µ—В—М –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ–±–Њ—О –Ї–∞–Ї—Г—О –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –µ–≥–Њ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М (ousian enupostaton). –Ш–±–Њ –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ (sterhsiz) –і–Њ–±—А–∞... –Ш —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ј–ї–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ –њ—А–Є—Б—Г—Й–Є–Љ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–±—Б—В¬≠–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є (en idial ueparxei), –љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Њ—В –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П (phrwmasin) –і—Г—И–Є [20]. –Ю–љ–Њ –љ–µ –µ—Б—В—М –љ–µ—Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ¬≠–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ –љ—С–Љ —В–µ, –Ї—В–Њ –і—Г—А–µ–љ, –Є –і–µ–ї–∞—О—В –µ–≥–Њ —А–∞–≤–љ—Л–Љ –і–Њ–±—А—Г... –Є –Њ–љ–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ—Л–Љ. –Ш–±–Њ, –µ—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Њ—В –±–Њ–≥–∞, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј –і–Њ–±—А–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Ј–ї–Њ?¬ї
–Ф—А—Г–≥–Њ–є –њ–∞—Б—Б–∞–ґ –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞–µ—В —Б–≤–µ—В –љ–∞ –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г –њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є ¬Ђ–®–µ—Б—В–Њ–і–љ–µ–≤–∞¬ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В:
¬Ђ–Т —А–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ—З–µ—Б—В–Є–≤–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ –Є–Љ–µ–µ—В –Є—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ –С–Њ–≥–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Є—Б—В–Њ–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ. –Ц–Є–Ј–љ—М –љ–µ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В —Б–Љ–µ—А—В—М, —В—М–Љ–∞ –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–∞, –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М вАФ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П... –Ф–∞–ї–µ–µ, –µ—Б–ї–Є –Ј–ї–Њ –Є –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ—Б–Њ¬≠—В–≤–Њ—А—С–љ–љ—Л–Љ, –Є –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ—Л–Љ –С–Њ–≥–Њ–Љ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –±–µ¬≠—А—С—В—Б—П –µ–≥–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞? –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–µ —Б—В–∞–љ–µ—В –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –ґ–Є–≤—Г—Й–Є—Е –≤ –Љ–Є—А–µ. –І—В–Њ –ґ–µ –љ–∞–Љ —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М? –І—В–Њ –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ –ґ–Є–≤–∞—П –Њ–і—Г—И–µ–≤–ї—С–љ–љ–∞—П —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ (diaqesiz) –і—Г—И–Є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –і–Њ–±—А—Г, –Є –±–µ—А—С—В –Њ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤ –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е (reasumoiz) –ї—О–і—П—Е, –Є–Ј-–Ј–∞ –Є—Е –Њ—В–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Њ—В –і–Њ–±—А–∞... –Ъ–∞–ґ–і—Л–є –Є–Ј –љ–∞—Б –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —Б–∞–Љ –Њ–љ –Є –µ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–ї–∞ –≤ —Б–µ–±–µ¬ї.
–Ґ–Њ—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ ¬Ђ–≤–µ—А—Е¬ї, –Љ—Л —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –Є ¬Ђ–љ–Є–Ј¬ї, –њ–µ—А–µ–і–µ–ї–∞–љ –Ј–і–µ—Б—М –≤ –њ—А–Є—З–Є–љ–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М –Є –і–Њ–≤–µ–і—С–љ –і–Њ –∞–±—Б—Г—А–і–∞: –≤–µ–і—М –і–Њ—Б—В–∞¬≠—В–Њ—З–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ —В—М–Љ–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В —Б–≤–µ—В, –∞ —Б–≤–µ—В –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В —В—М–Љ—Г. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –ґ–µ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –і–Њ–±—А–µ –Є –Ј–ї–µ —Б–ї—Г–ґ–∞—В –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Њ–є –і–ї—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ю–љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ—Г—О –њ–∞—А—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї¬≠–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —В–∞–Ї–Њ–≤—Л—Е, sine qua non (–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ (–ї–∞—В.)) –≤—Б–µ—Е –∞–Ї—В–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є—П. –° —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М¬≠—И–µ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П. –° —Н—В–Њ–є –ґ–µ —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ, –±—Г–і—Г—З–Є —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–µ –≤—Л–≤–Њ–і—П—В—Б—П –і—А—Г–≥ –Є–Ј –і—А—Г–≥–∞, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –љ—С–Љ. –Ч–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –і–Њ–±—А–Њ, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ї –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Є –Љ—Л —Б–∞–Љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є; –љ–Њ –Љ—Л –≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞—И–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –≠—В–Є —Д–∞–Ї—В—Л –Њ–і–Є–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ–Љ, –і—А—Г–≥–Њ–є вАФ –Ј–ї–Њ–Љ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В¬≠—Б—П –љ–µ—З—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ consensus generalis (–Ю–±—Й–µ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ (–ї–∞—В.)). –Х—Б–ї–Є –Љ—Л —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Љ—Б—П —Б –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАФ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –Ј–ї–∞, –љ–∞–Љ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ—А–Є–і—С—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –і–Њ–±—А–∞. –Э–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ вАФ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є; –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Д–∞–Ї—В–∞–Љ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ, –µ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —В–∞–Ї –ї–µ–≥–Ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М. –І—В–Њ–±—Л —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М, –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –±—Г–і–µ–Љ –і–∞—В—М —З–µ—В–Ї–Њ–µ –Њ–њ—А–µ¬≠–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–Њ–≤ –µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Є. –Я—Б–Є—Е–Є–∞—В—А—Г –Є–Ј–≤–µ—Б¬≠—В–љ–Њ, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–∞ –Ј–∞–і–∞—З–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞.
–Я–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥ –Њ—В—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –Њ—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є, –љ–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ¬≠—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П privatio boni. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є, –љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Є–Ј ¬Ђ–њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і—Г—И–Є¬ї, –Є –µ—Б–ї–Є –Њ–љ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Г–±–µ–ґ–і—С–љ, —З—В–Њ –Ј–ї–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ ¬Ђ–њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є¬ї –і—Г—И–Є, —З–µ–Љ—Г –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –≤ —А–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞. –Х—Б–ї–Є –і—Г—И–∞ –њ–µ—А–≤–Њ¬≠–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –і–Њ–±—А–Њ–є, —В–Њ –Њ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–∞ —З–µ–Љ-—В–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ, –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ —З—В–Њ-—В–Њ вАФ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –±–µ–Ј–Ј–∞–±–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М, –±–µ–Ј—А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Є–ї–Є —А–∞—Б–њ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ–Љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ reaqumia. –ѓ —Б—З–Є—В–∞—О –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ —Б–Њ –≤—Б–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М: –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ—З—В–Њ –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї –љ–µ–Ї–Њ–µ–Љ—Г –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Є–ї–Є —Д–∞–Ї—В—Г, –Њ–љ–Њ —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–µ —Б–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї –љ—Г–ї—О –Є –љ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞¬≠–µ—В—Б—П –≤ –љ–Є—З—В–Њ, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ–ї–∞–љ –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–ї—М¬≠–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ї–µ–≥—З–µ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М, —З–µ–Љ, —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –і—М—П–≤–Њ–ї–∞ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –і–Њ–≥–Љ—Л, –љ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В—С–љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–∞–Љ, –∞ —Б—Г¬≠—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ. –Х—Б–ї–Є –і—М—П–≤–Њ–ї –Њ—В–њ–∞–ї –Њ—В –С–Њ–≥–∞ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–µ, —Н—В–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Ј–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ –Є –і–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ¬≠–Ї–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, вАФ —З—В–Њ –і—М—П–≤–Њ–ї —Г–ґ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї ¬Ђ–њ–Њ–≤¬≠—А–µ–ґ–і—С–љ–љ–Њ–є¬ї –і—Г—И–Њ–є, –Є –љ–∞–Љ –љ–∞–і–Њ –њ–µ—А–µ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ¬≠–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ –љ–µ—С –љ–∞ —Н—В—Г —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –њ—А–Є—З–Є–љ—Г. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –Є–Ј—К—П–љ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П вАФ petitio principii (–Я—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П (—А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є) (–ї–∞—В.)), –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—Й–µ–µ –µ–≥–Њ –Ї –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—О: —Б —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–ї–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М, вАФ –і–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –і—М—П–≤–Њ–ї–∞, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞¬≠–µ–Љ–Њ–є –і–Њ–≥–Љ–Њ–є. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Г–≥—А–Њ–Ј–∞, –Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–∞—П –Њ—В –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–µ–≤ —Б –Є—Е –і—Г–∞–ї–Є–Ј¬≠–Љ–Њ–Љ. –≠—В–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –≤ —В—А–∞–Ї—В–∞—В–µ –Ґ–Є—В–∞ –Є–Ј –С–Њ—Б—В—А—Л, –Њ–Ј–∞–≥–ї–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ ¬ЂAdversus Manichaeos¬ї (–Я—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–µ–≤ (–ї–∞—В.)), –≥–і–µ –Њ–љ, –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞—П –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В, —З—В–Њ –≤ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –љ–µ—В —В–∞–Ї–Њ–є –≤–µ—Й–Є, –Ї–∞–Ї –Ј–ї–Њ.
–Ш–Њ–∞–љ–љ –Ч–ї–∞—В–Њ—Г—Б—В –≤–Љ–µ—Б—В–Њ serhsiz (privatio) –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ ektrophtuT kalouT (–Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –Њ—В–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—В –і–Њ–±—А–∞). –Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ч–ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –Њ—В –і–Њ–±—А–∞, –∞ –њ–Њ—Б–µ–Љ—Г –Ј–ї–Њ –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –і–Њ–±—А—Г¬ї.
–Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є–є –Р—А–µ–Њ–њ–∞–≥–Є—В –і–∞—С—В –і–µ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ –Ј–ї–∞ –≤ —З–µ—В–≤—С—А—В–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–µ ¬ЂDe divinis nominibus¬ї (¬Ђ–Ю –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–Љ–µ–љ–∞—Е¬ї(–ї–∞—В.)). –Ч–ї–Њ, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –Њ—В –і–Њ–±—А–∞, –Є–±–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Њ—В –і–Њ–±—А–∞, —В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –Ј–ї–Њ–Љ. –Э–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б—С —Б—Г—Й–µ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –і–Њ–±—А–∞, –≤—Б—С —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ, –∞ ¬Ђ–Ј–ї–Њ –љ–µ –µ—Б—В—М —Б—Г—Й–µ–µ¬ї (to de kakou oute on estin).
–Ч–ї–Њ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–Є–Љ, ... –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±¬≠–љ–Њ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞—В—М –±—Л—В–Є–µ –Є —В–≤–Њ—А–Є—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –±–ї–∞–≥–∞.
–Ч–ї–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –Є –Њ–љ–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Є–Љ, –љ–Є —В–≤–Њ—А—П—Й–Є–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–µ (ouk esti katolou to kakou oute agaqopoion).
–Т—Б–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤–µ—Й–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В, —Б—Г—В—М –і–Њ–±—А–Њ –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –Њ—В –і–Њ–±—А–∞; –љ–Њ –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Њ–љ–Є –ї–Є—И–µ–љ—Л –і–Њ–±—А–∞, –Њ–љ–Є –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–Є –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є, –љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б¬≠—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є.
–Ґ–Њ, —З—В–Њ –ї–Є—И–µ–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ, –Є–±–Њ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –љ–Є—З–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –≤ –і–Њ–±—А–µ —Б–≤–µ—А—Е—Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ¬≠—Б–Њ–±–Њ–Љ (kata to uperousion). –Ґ–Њ–≥–і–∞ –і–Њ–±—А–Њ, –Ї–∞–Ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Є –Ї–∞–Ї –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ, –Ј–∞–є–Љ—С—В –њ–µ—А–≤–µ–є—И–µ–µ –Є –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ј–ї—Г –ґ–µ –љ–µ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В.
–Я—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ —Ж–Є—В–∞—В—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б¬≠—В—М—О –Ю—В—Ж—Л –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї–Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є, —Н—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є –¶–µ—А–Ї–≤–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ¬≠—И–µ–љ–Є—О –Ї –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г, –Њ—В—З—С—В–ї–Є–≤–Њ –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П —Г –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞. –Т —Е–Њ–і–µ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–Є —Б –Љ–∞–љ–Є—Е–µ—П–Љ–Є –Є –Љ–∞—А–Ї–Є–Њ–љ–Є—В–∞–Љ–Є –Њ–љ –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ:
¬Ђ–Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –≤—Б–µ –≤–µ—Й–Є –і–Њ–±—А—Л, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –ї—Г—З—И–µ, —З–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–µ, –Є –і–Њ–±—А–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ –і–Њ–±—А—Л—Е –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–ї–∞–≤—Л –ї—Г—З—И–Є–Љ... –Ґ–µ –ґ–µ –≤–µ—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ –і—Г—А–љ—Л–Љ–Є, —Б—Г—В—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –≤–µ—Й–µ–є –і–Њ–±—А—Л—Е, –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—Й–Є–µ —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤–љ–µ –±–ї–∞–≥–Є—Е –≤–µ—Й–µ–є... –Э–Њ –Є —Б–∞–Љ–Є —Н—В–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –і–Њ–±—А–∞, –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –≤–µ—Й–µ–є. –Ш–±–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –і–Њ–±—А–Њ–Љ –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ. –Т–µ–і—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–µ–љ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –њ–Њ—Б¬≠–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–∞–љ–Њ—Б–Є—В –µ–є —Г—Й–µ—А–± вАФ –Ї–Њ–µ–≥–Њ –љ–µ –љ–∞–љ–Њ—Б–Є–ї –±—Л, –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–ї –і–Њ–±—А–Њ –≤ –љ–µ–є. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –Њ–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б¬≠—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞–Ї –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–є –≤–µ—Й–Є... –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–±—А–Њ –±–µ–Ј –Ј–ї–∞, —В–∞–Ї–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ –С–Њ–≥ –Є –≤—Л—Б—И–Є–µ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ј–ї–Њ –ґ–µ –±–µ–Ј –і–Њ–±—А–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Ш–±–Њ –µ—Б–ї–Є –Ј–ї–Њ –љ–Є—З–µ–Љ—Г –љ–µ –≤—А–µ–і–Є—В, –Њ–љ–Њ –љ–µ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ; –µ—Б–ї–Є –ґ–µ –≤—А–µ–і–Є—В, —В–Њ —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ; –µ—Б–ї–Є –≤—А–µ–і–Є—В –Є –і–∞–ї–µ–µ, —В–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –µ—Й–µ –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П —В–Њ–ї–Є–Ї–∞ –і–Њ–±—А–∞; –µ—Б–ї–Є –ґ–µ –Ј–ї–Њ –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В –≤—Б—С –і–Њ–±—А–Њ, —В–Њ –≤ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –≤–µ—Й–Є –љ–µ –Њ—Б—В–∞–љ–µ—В—Б—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–љ–µ—Б—В–Є —Г—Й–µ—А–±; –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Є –Ј–ї–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–і–Є—В—М, –µ—Б–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–µ—В —В–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л, —З—М–µ –і–Њ–±—А–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Њ –љ–∞–љ–µ¬≠—Б–µ–љ–Є–µ–Љ —Г—Й–µ—А–±–∞¬ї.
–Т ¬ЂLiber Sententiarum ex Augustino¬ї (¬Ђ–Ъ–љ–Є–≥–∞ –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–є –Є–Ј –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞¬ї (–ї–∞—В.)) –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П: ¬Ђ–Ч–ї–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–µ–є, –Є–±–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М¬≠–Ї—Г –С–Њ–≥ –љ–µ –±—Л–ї –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ, –Њ–љ–Њ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В; –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї –Є–ї–Є –њ–Њ—А—З–∞ —Б—Г—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Є–ї–Є –∞–Ї—В –ї–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Є¬ї . –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б —Н—В–Є–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ь–µ—З –љ–µ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ; –љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—Й–Є–є –Љ–µ—З –≤ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї—П—Е, вАФ –Њ–љ-—В–Њ –Є –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ¬ї.
–≠—В–Є —Ж–Є—В–∞—В—Л —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г—О—В —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—П –Є –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞: –Ј–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –ї–Є—И–µ–љ–Њ —Б—Г–±—Б¬≠—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Є–±–Њ –Њ–љ–Њ вАФ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–і–љ–Њ –ї–Є—И—М –Є–Љ–µ–µ—В —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О. –Ч–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б¬≠—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є vitium (–љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ–Ї (–ї–∞—В.)), –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ—Й–∞–Љ–Є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М¬≠—В–∞—В–µ –ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є –≤–Њ–ї–Є (—Б–ї–µ–њ–Њ—В—Л, –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –і—Г—А–љ—Л–Љ–Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П–Љ–Є, –Є —В.–њ.) –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –§–Њ–Љ–∞ –Р–Ї–≤–Є–љ—Б–Ї–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤—Л—И–µ–њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –Є–Ј –Ф–Є–Њ–љ–Є—Б–Є—П:
¬Ђ–Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –і—А—Г–≥—Г—О, –Ї–∞–Ї —В—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–µ—В. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –Ј–ї–Њ, —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М –Є–Ј –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –і–Њ–±—А–∞. –Ф–∞–ї–µ–µ: –≤—Л—И–µ –Љ—Л —Б–Ї–∞¬≠–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –і–Њ–±—А–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б—С –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П; –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б—П–Ї–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –ґ–µ–ї–∞–µ—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞, —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–Є–і—С—В—Б—П —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –±—Л—В–Є–µ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Б–Њ—В–≤–Њ¬≠—А—С–љ–љ–Њ–є –≤–µ—Й–Є –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ј–ї–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–µ–Ї—Г—О —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —Д–Њ—А–Љ—Г –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ј–ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—В—М—Б—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –і–Њ–±—А–∞. –Ч–ї–Њ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М—О, –і–Њ–±—А–Њ –ґ–µ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М—О —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П.
–І—В–Њ –≤—Б—П–Ї–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞–і–Є —Б–≤–Њ–µ–є —Ж–µ–ї–Є, —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞, —З—В–Њ –≤—Б—П–Ї–∞—П —Б–Є–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞–і–Є —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–≥–Њ. –Ф–∞–ї–µ–µ, —В–Њ, –Ї —З–µ–Љ—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ —Г—Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞, —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–∞—В—М —Н—В–Њ–є —Б–Є–ї–µ, –Є–±–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –љ–µ —Б—В–∞–ї–∞ –±—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ–Њ –µ–є –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–±–∞–ї–Њ. –Э–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–∞–µ—В –≤–µ—Й–Є, –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ –і–ї—П –љ–µ—С. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –≤—Б—П–Ї–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞–і–Є –і–Њ–±—А–∞¬ї.
–Ґ–Њ—В –ґ–µ –°–≤—П—В–Њ–є –§–Њ–Љ–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—П ¬Ђ—З–µ–Љ –±–µ–ї–µ–µ –≤–µ—Й—М, —В–µ–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Њ–љ–∞ —Б–Љ–µ—И–∞–љ–∞ —Б —З—С—А–љ—Л–Љ¬ї, –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –ґ–µ, —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї¬≠–Њ–ґ–љ–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ ¬Ђ—З–µ–Љ —З–µ—А–љ–µ–µ –≤–µ—Й—М, —В–µ–Љ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Њ–љ–∞ —Б–Љ–µ—И–∞–љ–∞ —Б –±–µ–ї—Л–Љ¬ї –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–µ—А–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –њ–µ—А–≤–Њ–µ, –љ–Њ –Є –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ –µ–Љ—Г. –Ю–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –µ—Й–µ –Є –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —Б–≤–µ—В, –љ–Њ –Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, —Б–≤–µ—В –њ–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —В—М–Љ—Г.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –ї–Є—И—М —В–Њ, —З—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–Њ вАФ –њ–Њ –§–Њ–Љ–µ –Р–Ї–≤–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г вАФ –ї–Є—И—М –і–Њ–±—А–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ ¬Ђ—Б—Г¬≠—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї. –Т –µ–≥–Њ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –≤–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –і–Њ–±—А–∞, —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ–µ ¬Ђ—Г–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–і–Њ–±–∞—О—Й–µ–Љ—Г, –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–Љ—Г¬ї. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ—Б—В–Є ¬Ђomne agens agit propter bonum¬ї –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Т—Б—П–Ї–∞—П –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В —А–∞–і–Є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Є –і—М—П–≤–Њ–ї, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ю–љ —В–Њ–ґ–µ –љ–∞–і–µ–ї—С–љ ¬Ђ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ"¬ї –Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г вАФ –љ–µ –≤ –і–Њ–±—А–µ, –∞ –≤–Њ –Ј–ї–µ. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –≤—А—П–і –ї–Є –Њ—В—Б—О–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –µ—Б—В—М –і–Њ–±—А–Њ¬ї.
–Ч–ї–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–љ—М¬≠—И–µ–љ–Є–µ, ¬Ђ–Њ—В—К—П—В–Є–µ¬ї –і–Њ–±—А–∞; –љ–Њ –њ—А–Є —В–∞–Ї–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ —Б —В–µ–Љ –ґ–µ —Г—Б–њ–µ—Е–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: ¬Ђ—В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –њ—А–Є –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–Є–Љ–µ, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—С—А–Ј–љ—Г—В –љ–∞—И–Є –љ–Њ—Б—Л –Є —Г—И–Є, –ї–Є—И—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є–ґ–µ (–µ—Б–ї–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ), —З–µ–Љ —В–∞, —З—В–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є —Н–Ї–≤–∞—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–∞—А–µ. –Т–µ–і—М –∞—А–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А–∞ —А–µ–і–Ї–Њ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В—Б—П –љ–Є–ґ–µ 230 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –љ–∞–і –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–Љ –љ—Г–ї—С–Љ. –Т—Б–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ "—В–µ–њ–ї—Л" –≤ —В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, —З—В–Њ –љ–Є–≥–і–µ –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–є –љ—Г–ї—М. –Я–Њ–і–Њ–±¬≠–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Б–µ –≤–µ—Й–Є –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ ¬Ђ–±–ї–∞–≥–Є¬ї, –Є –Ї–∞–Ї —Е–Њ–ї–Њ–і –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ —В–µ–њ–ї–∞, —В–∞–Ї –Є –Ј–ї–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞, –µ–≥–Њ ¬Ђ–Њ—В—К—П—В–Є–µ¬ї. –Р—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В privatio boni –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Н–≤—Д–µ–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ petltio principii –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –±—Г–і–µ—В –ї–Є –Ј–ї–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–±—А–Њ–Љ –Є–ї–Є –ґ–µ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є. –Ы–Њ–ґ–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б–ї–µ¬≠–і—Г–µ—В –Є–Ј –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є Deus = Summum Bonum (–С–Њ–≥ = –Т—Л—Б—И–µ–µ –Ф–Њ–±—А–Њ (–ї–∞—В.)), –њ–Њ—Б¬≠–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ–Љ—Л—Б–ї–Є–Љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л—Б—И–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–Њ –Ј–ї–Њ. –Ю–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ –і–Њ–±—А–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ–µ –і–Њ–±—А–Њ (–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Љ–Є—А—П–љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В ¬Ђ—Е—Г–і—И–Є–Љ¬ї) [21]. –Ш, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ –Љ—С—А–Ј–љ–µ–Љ, –љ–µ–≤–Ј–Є—А–∞—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–µ–Љ–њ–µ¬≠—А–∞—В—Г—А–∞ –љ–∞ 230 –≥—А–∞–і—Г—Б–Њ–≤ –≤—Л—И–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ –љ—Г–ї—П, —В–∞–Ї –ґ–µ –µ—Б—В—М –ї—О–і–Є –Є –≤–µ—Й–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, —Е–Њ—В—П –Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –С–Њ–≥–Њ–Љ, –і–Њ–±—А—Л –ї–Є—И—М –≤ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, –∞ –Ј–ї—Л вАФ –≤ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є.
–Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –Ј–∞ –Ј–ї–Њ–Љ –Ї–∞–Ї—Г—О –±—Л —В–Њ –±—Л –±—Л–ї–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–µ ¬ЂOmne bonum a Deo omne malum ab homine¬ї. –Ч–і–µ—Б—М –≤—Л—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М —В–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ—Л, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј¬≠–і–∞—В–µ–ї—М —В–µ–њ–ї–∞ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ј–∞ —Е–Њ–ї–Њ–і. –Ь—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Г—О –њ—А–∞¬≠–≤–Њ—В—Г –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –≤—Б–µ –і–Њ–±—А—Л, вАФ –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –ґ–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–Њ–±—А—Л, —З—В–Њ–±—Л –Є—Е –Є—Б–њ–Њ—А—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ –±—Л–ї–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–∞.
–Э–µ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –Ї–Њ–Љ—Г-–ї–Є–±–Њ –≤–Ј–±—А–µ–і—С—В –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–ї–∞–≥–µ¬≠—А—П—Е –і–Є–Ї—В–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ґ–Є–Љ–Њ–≤ ¬Ђ—Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Б–Њ¬≠–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞¬ї; —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Ј–≤—Г—З–∞–ї–Њ –±—Л –Ї–∞–Ї –Є–Ј–і–µ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ.
–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ; –Њ–љ–∞ –Є—Е –Ј–љ–∞–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е. ¬Ђ–Ф–Њ–±—А–Њ–Љ¬ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –њ–Њ–і—Е–Њ¬≠–і—П—Й–Є–Љ, –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л–Љ –Є–ї–Є —Ж–µ–љ–љ—Л–Љ —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Ј–ї–Њ–Љ вАФ –љ–µ—З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ. –Х—Б–ї–Є –≤–µ—Й–Є, –љ–∞–Ј—Л¬≠–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –љ–∞–Љ–Є –і–Њ–±—А–Њ–Љ, ¬Ђ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ¬ї –±–ї–∞–≥–Є, —В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –Є –≤–µ—Й–Є, —В–∞–Ї –ґ–µ ¬Ђ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ¬ї —П–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –Ј–ї–Њ–Љ. –Ф–ї—П –њ—Б–Є—Е–Њ¬≠–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –і–µ–ї–Њ —Б –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–љ—В–Є—В–µ–Ј–Њ–є, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ–ї—М–Ј—П —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–љ—Г—В—М, –њ–Њ–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–≤ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ¬ї –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–µ—З—В–Њ, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П –Ј–ї–Њ–Љ, –∞ ¬Ђ–Ј–ї–Њ¬ї вАФ –љ–µ—З—В–Њ, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—Й–µ–µ—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–Љ. –Х—Б—В—М –≤–µ—Й–Є, —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±–Њ–є –Ї—А–∞–є–љ–µ–µ –Ј–ї–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М –Ї—А–∞–є¬≠–љ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ. –Х—Б—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–µ—Й–Є –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ї—А–∞–є–љ–µ –Њ–њ–∞—Б–љ—Л –Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В¬≠—Б—П –Ј–ї–Њ–Љ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ—Г, –Ї—В–Њ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –Є—Е –ї–Є–љ–Є–Є –Њ–≥–љ—П. –Ч–∞¬≠–Љ–∞–ї—З–Є–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –Ј–ї–Њ –±–µ—Б–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ, –Є–±–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –ї–Њ–ґ¬≠–љ–Њ–≥–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Г—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –і–∞—Б—В. –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –љ–∞ –Ј–ї–Њ –≤ –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В¬≠–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ, –Є –Ј–ї—Л–µ –і–µ–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л, –Ї–∞–Ї –Є –і–Њ–±—А—Л–µ, –≤ —В–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Є –≤ —В–µ—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е, –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б¬≠–Ї–∞—П –њ—Б–Є—Е–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е –Є –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—М —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–µ –і–µ–ї–∞–µ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –і–Њ–±—А–Њ–Љ –Є –Ј–ї–Њ–Љ. –Э–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–Є–Ї—В–Њ –њ–Њ-–љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞¬≠–і–∞–µ—В –≤ –Љ–Є—А–µ. –Ь—Л –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –љ–∞–і–µ–µ–Љ—Б—П, —З—В–Њ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ вАФ —В–∞–Ї –љ–∞–Љ —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ. –Э–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –і–∞–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –±—Л —Б–Њ–±–Њ–є –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–µ –±–ї–∞–≥–Њ. –°–Ї–Њ–ї—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –Љ—Л –љ–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–µ–Љ –≤ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є —И–∞—В–Ї–Њ—Б—В—М –љ–∞—И–Є—Е –Љ–Њ¬≠—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є, —Н—В–Њ –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М –љ–∞—Б –Њ—В —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤, –Є —В–µ, –Ї—В–Њ —Б—З–Є—В–∞—О—В —Б–µ–±—П —Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ–Є –љ–∞–і –і–Њ–±—А–Њ–Љ –Є –Ј–ї–Њ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞–Є—Е—Г–і—И–Є–Љ–Є –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞, –Є–±–Њ –Є—Е –≥–ї–Њ–ґ–µ—В –±–Њ—П–Ј–љ—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Й–µ—А–±–љ–Њ—Б—В–Є.
–°–µ–є—З–∞—Б, –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –ї—О–і–Є –љ–µ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ¬≠–≥–∞–ї–Є –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М—О –Ј–ї–∞, —В–∞—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≤ –љ–Є—Е. –Ъ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В—М—О, –Њ–љ–Њ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–ґ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ, –Є —Н—В–Њ –Њ–±—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М –љ–∞ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–ї–∞ –Є –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞—В—М –ї—О–±–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ¬≠–ї–µ–љ–Є–µ, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–ї–Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П вАФ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞—Г–Ї–∞, –Є–Љ–µ—О—Й–∞—П –і–µ–ї–Њ —Б —А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥, —П, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О –љ–Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–Є –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–µ–є –≤–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ¬≠–і–µ–љ–Є—П. –ѓ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї—Г –ї–Є—И—М —В–∞–Љ, –≥–і–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –≤—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Њ–њ—Л—В–∞ –Є –Є–љ—В–µ—А–њ¬≠—А–µ—В–Є—А—Г–µ—В –µ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л–Љ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Ь–Њ—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ privatio boni —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞. –° –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, privatio boni, –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Њ—Б–љ–Њ¬≠–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ petitio principii, –Ї–Њ–≥–і–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ, –µ—Б—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –≤—Л —Г–ґ–µ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ. –Р—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —Б–Є–ї–Њ–є —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В—Б—П, –љ–Њ –Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В –љ–µ—Б–Њ¬≠–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ, –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П. –Ф–∞–љ–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М –њ–µ—А¬≠–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –і–Њ–±—А—Г, –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—П –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ вАФ –њ–Њ–і–Њ¬≠–±–∞—О—Й–Є–µ –Є –љ–µ–њ–Њ–і–Њ–±–∞—О—Й–Є–µ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ —Г–њ–Њ—А–љ–Њ –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –Ј–∞ privatio boni, –Њ–љ–∞, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ, –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—В—М –і–Њ–±—А–Њ –Є –њ—А–µ—Г–Љ–µ–љ—М—И–∞—В—М –Ј–ї–Њ. Privatio boni –Љ–Њ–ґ–µ—В, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ–Њ–є. –ѓ –љ–µ –±–µ—А—Г—Б—М –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—М —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Г. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ, –љ–∞ —З—С–Љ —П –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—О, вАФ —З—В–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А–µ –±–µ–ї–Њ–µ –Є —З—С—А–љ–Њ–µ, —Б–≤–µ—В –Є —В—М–Љ–∞, –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—В —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В¬≠–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞.
–≠—В–Њ—В –њ—А–Њ—Б—В–µ–є—И–Є–є —Д–∞–Ї—В –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –≤–µ—А–љ—Г—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г –≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е ¬Ђ–Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤—Л—Е –Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і—П—Е¬ї вАФ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є –≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Є–±–ї–Є¬≠–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ 150 –≥. –љ.—Н. –Ш—Е –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤—Г—О –Є –ї–µ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –С–Њ–≥–∞, –∞ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞—Е –љ–µ—А–∞–Ј—А—Л–≤–љ—Л—Е –±—А–∞—З–љ—Л—Е –њ–∞—А –Є–ї–Є –±–Є–љ–∞—А–љ—Л—Е –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ь–∞—А–Є–љ, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –С–∞—А–і–µ–Ј–∞–љ–∞, —Б—З–Є—В–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ ¬Ђ—Б–≤–µ—В¬≠–ї—Л–Љ¬ї –Є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–µ (dexion), –∞ –Ј–ї–Њ ¬Ђ—В—С–Љ–љ—Л–Љ¬ї, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–Є–Љ –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–µ (a ristero). –Ы–µ–≤–∞—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–∞, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—З–∞¬≠–ї—Г. –Ґ–∞–Ї, —Г –Ш—А–Є–љ–µ—П (Adv. haer, I, 30, 3) –°–Њ—Д–Є—П Prounikos (—Б–ї–∞–і–Њ—Б—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П (–≥—А–µ—З.)) –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ Sinistra (–Ы–µ–≤–∞—П (–ї–∞—В.)). –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Н—В–Њ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–Њ–≤¬≠–Љ–µ—Б—В–Є–Љ—Л–Љ —Б –Є–і–µ–µ–є –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞. –Х—Б–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ–Њ—Б—В—М—О –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ вАФ –∞ –≤—Б—П–Ї–Є–є –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–Њ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–µ–љ, вАФ —В—А—Г–і¬≠–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞—В—М –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–∞. –Т –ї—О–±–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –ї–µ—В –љ–∞ –і–≤–µ—Б—В–Є —Б—В–∞—А—И–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –≤—Л—И–µ —Ж–Є—В–∞—В) –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞ –љ–µ –≤–µ–і—С—В —Б –љ–µ–Њ–±¬≠—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Ї –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г –Є –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–µ—В –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞. –§–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, —Н—В–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ, –њ–µ—А–µ–Ї—А—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ —Б–Њ–±–Њ–є —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Є–µ–≥–Њ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–∞–Љ–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П. –ѓ—Е–≤–µ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤, –∞ –љ–µ—Б–њ¬≠—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ–±—А–Њ–Љ. –С–Њ–≥ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞, —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –µ—Б—В—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–±—А–Њ. –Э–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М, —З—В–Њ —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–∞ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–µ—В –љ–∞–Љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ¬≠–ї–µ—В—М —Н—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—Й–Є–Љ—Б—П —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є.
–Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ –њ—А–Њ—Б¬≠–ї–µ–і–Є—В—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є. ¬Ђ–С–Њ–≥, вАФ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ, вАФ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –і–≤–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ (basileiaV) –Є –і–≤–µ —Н—А—Л (aivnaV), –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –±—Г–і–µ—В –Њ—В–і–∞–љ–Њ –Ј–ї—Г (ponhrV), –Є–±–Њ –Њ–љ–Њ –Љ–∞–ї–Њ –Є —Б–Ї–Њ—А–Њ–њ—А–µ—Е–Њ–і—П—Й–µ. –С—Г–і—Г—Й–Є–є –ґ–µ –Љ–Є—А –Њ–љ –Њ–±–µ—Й–∞–ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –і–ї—П –і–Њ–±—А–∞, –Є–±–Њ –Њ–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ –Є –≤–µ—З–љ–Њ¬ї. –Ф–∞–ї–µ–µ –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –і–≤–Њ–є–љ–Њ–µ –і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞: —В–µ–ї–Њ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ¬≠–Љ—Г –љ–∞—З–∞–ї—Г, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ–Љ–Њ–Љ—Г —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –і—Г—Е вАФ –Ї –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –љ–∞—З–∞–ї—Г, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–Љ—Г —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–љ –љ–∞¬≠–Ј—Л–≤–∞–µ—В —В–µ–ї–Њ –Є –і—Г—Е ¬Ђ–і–≤—Г–Љ—П —В—А–Є–∞–і–∞–Љ–Є¬ї [22].
¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Є–Ј –і–≤—Г—Е —Б–Љ–µ—Б–µ–є (furamatwn, –і–Њ—Б–ї–Њ–≤¬≠–љ–Њ ¬Ђ–≤–Є–і–Њ–≤ —В–µ—Б—В–∞¬ї), –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –Є –њ—Г—В–µ–є –ї–µ–ґ–Є—В –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ –і–≤–∞: –њ—Г—В—М –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–љ–Є—П –Є –њ—Г—В—М –љ–µ–њ–Њ—Б–ї—Г¬≠—И–∞–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Г; –Є –і–≤–∞ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л вАФ –Њ–і–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–Њ–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –µ—Б—В—М —Ж–∞—А—Б—В–≤–Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –љ—Л–љ—З–µ –њ—А–∞–≤–Є—В –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ... –Ш–Ј —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е, –Њ–і–љ–Њ –≤–µ—А—И–Є—В –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Ш –і–≤–∞ —Н—В–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞, –њ—А–∞–≤—П—Й–Є–µ –≤—Б–µ–Љ, —Б—Г—В—М —Б–Ї–Њ—А—Л–µ —А—Г–Ї–Є –С–Њ–ґ—М–Є¬ї.
–Ч–і–µ—Б—М –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ–µ–Ї –љ–∞ –Т—В–Њ—А–Њ–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є–µ, 32.39: ¬Ђ–ѓ —Г–Љ–µ—А—Й–≤¬≠–ї—П—О –Є –Њ–ґ–Є–≤–ї—П—О¬ї. –С–Њ–≥ —Г–±–Є–≤–∞–µ—В –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Є —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В –њ—А–∞–≤–Њ–є.
¬Ђ–≠—В–Є –і–≤–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –≤–љ–µ –С–Њ–≥–∞, –Є–±–Њ —Г –љ–Є—Е –љ–µ—В –Є–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ (arch). –Э–µ –±—Л–ї–Є –Њ–љ–Є –Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –С–Њ–≥–Њ–Љ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ; –Є–±–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –Њ–љ–Є –Њ–±—Й–Є–Љ —Б –љ–Є–Љ —Г–Љ–Њ–Љ (omodoxoi)... –Я–Њ—Б–ї–∞–љ—Л –ґ–µ –±—Л–ї–Є –С–Њ–≥–Њ–Љ —З–µ—В—Л—А–µ –њ–µ—А–≤–Њ—Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ вАФ —В–µ–њ–ї–Њ–µ –Є —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ, –≤–ї–∞–ґ–љ–Њ–µ –Є —Б—Г—Е–Њ–µ. –Т—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ вАФ –Ю—В–µ—Ж –≤—Б—П–Ї–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є (ouesita), –љ–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—П —Н–ї–µ¬≠–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Ш–±–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –±—Л–ї–Є —Б–Љ–µ—И–∞–љ—Л –Є–Ј–≤–љ–µ, –≤—Л–±–Њ—А (proairesi) –Ј–∞—А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –љ–Є—Е, –Ї–∞–Ї –Є—Е –і–Є—В—П¬ї.
–Ґ–Њ –µ—Б—В—М –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—П —З–µ—В—Л—А—С—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ, –≤—Л–Ј–≤–∞–≤—И–µ–µ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–µ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —А–µ—И–µ–љ–Є–є, –Є–ї–Є –∞–Ї—В–Њ–≤ –≤—Л–±–Њ—А–∞. –І–µ¬≠—В—Л—А–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В —З–µ—В–≤–µ—А–Є—З–љ—Г—О —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О —В–µ–ї–∞ (tetragenh oue swmato ousia), –∞ –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ –Є –Ј–ї–∞ (toue ponhroue). –≠—В–∞ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ ¬Ђ—В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–∞ –С–Њ–≥–Њ–Љ –Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–∞ –Є–Љ, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–∞—Б—М —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є—О –Є–Ј–≤–љ–µ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤–Њ–ї–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ –µ—С, –Ї–∞–Ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤—Л–±–Њ—А, —А–∞–і—Г—О—Й–Є–є—Б—П –Ј–ї—Г¬ї.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: –І–µ—В–≤–µ—А–Є—З–љ–∞—П —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—П –≤–µ—З–љ–∞ (ouisa aei), –Њ–љ–∞ вАФ –і–Є—В—П –С–Њ–≥–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ –Ј–ї—Г –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–≤–љ–µ –і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї —Б–Љ–µ—Б–Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—О –С–Њ–≥–∞. –Ч–ї–Њ, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Њ –љ–Є –С–Њ–≥–Њ–Љ, –љ–Є –Ї–µ–Љ-–ї–Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ, –Њ–љ–Њ –љ–µ –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Є –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ. –Я–µ—В—А, –≤ —Г—Б—В–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л —Н—В–Є —Б–Њ–Њ–±—А–∞¬≠–ґ–µ–љ–Є—П, —П–≤–љ–Њ –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–≤–µ—А–µ–љ, –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±—Б—В–Њ–Є—В –і–µ–ї–Њ.
–Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –±—Л –±–µ–Ј –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ¬≠—А–µ–љ–Є—П (–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –і–∞–ґ–µ –±–µ–Ј –µ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ–∞) —Б–Љ–µ—И–µ–љ–Є–µ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П–ї–Њ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, вАФ —Е–Њ—В—П —В–∞–Ї—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–Є—А–Є—В—М —Б –Є–і–µ–µ–є –Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г–Ї –С–Њ–≥–∞, ¬Ђ–≤–µ—А—И–∞—Й–Є—Е –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –Њ–і–љ–∞ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Њ–є¬ї. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –Я–µ—В—А, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї—П¬≠—О—Й–Є–є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –Ј–ї–∞.
–Р–≤—В–Њ—А ¬Ђ–Я—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–µ–є¬ї —А–∞–Ј–і–µ–ї—П–µ—В –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –≤ –і—Г—Е–µ –Я–µ—В—А–∞, –Є–Љ–µ—О—Й—Г—О —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є ¬Ђ—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є¬ї, —А–Є—В—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –Њ—В—В–µ–љ–Њ–Ї. –Т–Ј—П—В–Њ–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –µ–≥–Њ –і–Њ–Ї—В—А–Є¬≠–љ–Њ–є –і–≤—Г—Е –∞—Б–њ–µ–Ї—В–Њ–≤ –С–Њ–≥–∞, —Н—В–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В –µ–≥–Њ –≤ —В–µ—Б–љ—Г—О —Б–≤—П–Ј—М —Б —А–∞–љ–љ–µ–є –Є—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М—О, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б¬≠–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Х–њ–Є—Д–∞–љ–Є—П, –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –Є–і—Г—Й–µ–µ –Њ—В —Н–±–Є–Њ–љ–Є—В–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –С–Њ–≥ –Є–Љ–µ–ї –і–≤—Г—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є: —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ вАФ –°–∞—В–∞–љ—Г, –Є –Љ–ї–∞–і—И–µ–≥–Њ вАФ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ь–Є—Е–µ–є, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—П, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ—Л –Њ–і–љ–Є–Љ –Є —В–µ–Љ –ґ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ, –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є.
–Т —Б—А–µ–і–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –∞–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—Б–Є—Б–Њ–≤ (–Є—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ), –љ–Њ—Б—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Т–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Ш—Б–∞–є–Є¬ї, –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ —Б–µ–Љ–Є –љ–µ–±–µ—Б, —З–µ—А–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ш—Б–∞–є—П –±—Л–ї –њ—А–Њ–љ–µ—Б—С–љ. –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –°–∞–Љ–Љ–∞–Є–ї–∞ –Є –µ–≥–Њ –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ, –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–Њ–µ–≥–Њ –љ–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є —В–≤–µ—А–і–Є –≤–µ–ї–∞—Б—М ¬Ђ–≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П –±–Є—В–≤–∞¬ї. –Ч–∞—В–µ–Љ –∞–љ–≥–µ–ї –њ–Њ–≤–ї—С–Ї –µ–≥–Њ –і–∞–ї–µ–µ, –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –љ–µ–±–Њ, –Є –њ–Њ–і–≤–µ–ї –µ–≥–Њ –Ї —В—А–Њ–љ—Г. –°–њ—А–∞–≤–∞ –Њ—В —В—А–Њ–љ–∞ —Б—В–Њ—П–ї–Є –∞–љ–≥–µ–ї—Л, –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ, —З–µ–Љ —В–µ –∞–љ–≥–µ–ї—Л, —З—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї–Є —Б–ї–µ–≤–∞. –Ґ–µ, —З—В–Њ —Б—В–Њ—П–ї–Є —Б–њ—А–∞–≤–∞, ¬Ђ–≤—Б–µ –њ–µ–ї–Є —Е–≤–∞–ї—Г –≤ –Њ–і–Є–љ –≥–Њ–ї–Њ—Б¬ї, —В–µ –ґ–µ, —З—В–Њ —Б–ї–µ–≤–∞, –њ–µ–ї–Є –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є, –Є –њ–µ–љ–Є–µ –Є—Е –±—Л–ї–Њ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е. –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ–±–µ –≤—Б–µ –∞–љ–≥–µ–ї—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ, –Є –і–∞–ї—М—И–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П вАФ —З—В–Њ –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–µ–±–µ, —З—В–Њ –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –°–∞–Љ–Љ–∞–Є–ї–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –љ–µ–±–µ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –∞–љ–≥–µ–ї—Л, —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —Б–ї–µ–≤–∞, —В–∞–Љ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–µ–Ї¬≠—А–∞—Б–љ—Л. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –љ–Є–ґ–љ–Є–µ –љ–µ–±–µ—Б–∞ –љ–µ —В–∞–Ї —Б–Є—П—О—Й–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л, –Ї–∞–Ї –≤–µ—А—Е–љ–Є–µ; –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–µ –≤ —Б–Є—П–љ–Є–Є. –Ф—М—П–≤–Њ–ї, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞—А—Е–Њ–љ–∞–Љ, –Њ–±–Є—В–∞–µ—В –љ–∞ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–і–µ –Є, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ, –Њ–љ –Є –µ–≥–Њ –∞–љ–≥–µ–ї—Л —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В –∞—Б—В—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –±–Њ–≥–∞–Љ –Є –≤–ї–Є—П–љ–Є—П–Љ. –У—А–∞–і–∞—Ж–Є—П —Б–Є—П–љ–Є—П –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –њ—Г—В–Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–±–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б—Д–µ—А—Л –і—М—П–≤–Њ–ї–∞ –Є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л –Ґ—А–Њ–Є—Ж—Л, —Б–≤–µ—В –Ї–Њ—В–Њ¬≠—А–Њ–є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–µ—В –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –љ–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–±–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ–±—А–Є—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –і–Њ¬≠–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є, —Г—А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—И–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–є –Є –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–µ. –Т–µ—Б—М–Љ–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ¬≠–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ъ–ї–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤—Л –њ—А–Њ–њ–Њ–≤–µ–і–Є¬ї, —В–∞–Ї –Є —Н—В–Њ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –і–Њ-–Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г (II –≤), –Ї–Њ–≥–і–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤—Г –µ—Й—С –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ—Г–ґ–і—Л —Б—А–∞–ґ–∞—В—М—Б—П —Б –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–∞–Љ–Є –≤ –ї–Є—Ж–µ –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–µ–≤. –Т–Є–і–µ–љ–Є–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –њ—А–Є–љ—П—В—М –Ј–∞ –і–Њ–њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є ¬Ђ–Є–љ—М-—П–љ¬ї, –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –≤ –љ—С–Љ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ—Б—В–Є –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –Є—Б—В–Є–љ–µ, —З–µ–Љ privatio boni. –Ю–љ–∞, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –≤—А–µ–і–Є—В –Љ–Њ–љ–Њ—В–µ–Є–Ј–Љ—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї –ґ–µ, –Ї–∞–Ї —П–љ –Є –Є–љ—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—В—Б—П –≤ –Ф–∞–Њ (–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є–µ–Ј—Г–Є—В—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –Ї–∞–Ї ¬Ђ–С–Њ–≥¬ї). –Т—Б–µ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —В–∞–Ї, –±—Г–і—В–Њ –±—Л –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Є–є –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї –Ю—В—Ж–Њ–≤ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—В—М —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –µ–≥–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–љ–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –љ–µ—П–≤–љ–Њ –≤–µ—А–Є–ї–Є –≤ —Б—Г–±—Б¬≠—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ј–ї–∞. –≠—В–Њ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—Б—В–Є –Є—Е –Ї –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ–Љ—Г –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і–њ–Њ¬≠–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О, —З—В–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З–µ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М –Є –С–Њ–≥. –†–∞–љ–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –±–Њ–ї–µ–µ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А—Г —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –µ—Й—С —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –±—Л–ї–Є –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –њ–Њ–≥—А–µ—И–љ–Њ—Б—В–Є.
–Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —А–Є—Б–Ї–љ—Г—В—М –Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–Њ–≥–∞–і–Ї—Г, —З—В–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Є–µ–≥–Њ–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–≥–∞, —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–∞—П—Б—П –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Г—О –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Г—О –Ї–Њ–љ—Б—В–µ–ї–ї—П—Ж–Є—О –µ—Й–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Ъ–љ–Є–≥–Є –Ш–Њ–≤–∞, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї–∞ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—В—М—Б—П –≤ –≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е –Є –≤ —Б–Є–љ–Ї—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л вАФ –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ—Б—В–Є –С–Њ–≥–∞, вАФ –љ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Њ –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є—Г–і–µ–µ–≤. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–∞ –і–≤—Г—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г —Б—Л–љ–Њ–≤–µ–є –С–Њ–≥–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ —Г –Є—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ, –ґ–Є–≤—И–Є—Е –≤ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ–µ. –Т–љ—Г—В—А–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –і–∞–љ–љ–∞—П –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–µ—А–µ—И–ї–∞ –Ї –±–Њ–≥–Њ–Љ–Є–ї–∞–Љ –Є –Ї–∞—В–∞—А–∞–Љ; –≤ –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ–µ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–∞ –љ–∞ —Е–Њ–і —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є –Є —Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є–ї–∞ —Б–µ–±—П –≤ –Њ–±—А–∞–Ј–µ –і–≤—Г—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Ї–∞–±–±–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ¬≠–≥–Њ –Ф—А–µ–≤–∞ –°–µ—Д–Є—А–Њ—В, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П hesed (¬ї–ї—О¬≠–±–Њ–≤—М¬ї) –Є din (¬Ђ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М¬ї) (–Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Ѓ–љ–≥ –Є–Љ–µ–µ—В –≤ –≤–Є–і—Г 4-—О –Є 5-—О —Б–µ—Д–Є—А–Њ—В—Г: –•–µ—Б–µ–і вАФ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–µ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ –Є –У–µ–±—Г—А–∞ вАФ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є–µ (–ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ—Б—В—М) - –Я—А–Є–Љ. —А–µ–і.). –Ч–љ–∞—В–Њ–Ї —А–∞–≤–≤–Є–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г—З–µ–љ–Є—П –¶–≤–Є –Т–µ—А–±–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є –ї—О–±–µ–Ј–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—Л–і–µ—А–ґ–µ–Ї –Є–Ј –µ–≤—А–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ.
–†–∞–≤–≤–Є–љ –Ш–Њ—Б–Є—Д —Г—З–Є–ї: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–≤–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б—В–Є—Е–∞: ¬Ђ–∞ –≤—Л –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В–µ –Ј–∞ –і–≤–µ—А–Є –і–Њ–Љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–Њ —Г—В—А–∞¬ї (–Ш—Б—Е–Њ–і, 12:22) [23]? –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Б—В—А–µ–±–ї—П—О—Й–Є–є –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –Њ–љ –љ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞–µ—В –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–Љ–Є –Є –Ј–ї—Л–Љ–Є. –Ю–љ –і–∞–ґ–µ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —Б –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л—Е¬ї. –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г—П —Б—В–Є—Е –Ш—Б—Е–Њ–і 33:5 (¬Ђ–µ—Б–ї–Є –ѓ –њ–Њ–є–і—Г —Б—А–µ–і–Є –≤–∞—Б, —В–Њ –≤ –Њ–і–љ—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Є—Б—В—А–µ–±–ї—О –≤–∞—Б¬ї) –Љ–Є–і—А–∞—И –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–ѓ—Е–≤–µ –Є–Љ–µ–µ—В –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞–Ј–≥–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –≤–∞—Б –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ вАФ –Є–±–Њ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –≥–љ–µ–≤–∞, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ –≤ —Б—В–Є—Е–µ –Ш—Б–∞–є—П, 26:20, ¬Ђ–£–Ї—А–Њ–є—Б—П –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ, –і–Њ–Ї–Њ–ї–µ –љ–µ –њ—А–Њ–є–і—С—В –≥–љ–µ–≤¬ї, вАФ –Є –≤ —Н—В–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В—А–µ–±–Є—В –≤–∞—Б". –ѓ—Е–≤–µ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–µ—В –Ј–і–µ—Б—М –Њ —Б–≤–Њ–µ–є –±–µ–Ј—Г–і–µ—А–ґ–љ–Њ–є –≥–љ–µ–≤–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–Є–≥ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–љ–µ–≤–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є–µ, –Њ–љ–Њ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В —Б–≤–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Т–∞–ї–∞¬≠–∞–Љ, ¬Ђ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Є–і–Є—В –≤–Є–і–µ–љ–Є—П –Т—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ¬ї (–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ: ¬Ђ–Ч–љ–∞–µ—В –Љ—Л—Б–ї–Є –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–≥–Њ...¬ї вАФ –≤ –Ї–∞–љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–∞ ¬Ђ... –Є–Љ–µ—О—Й–Є–є –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В –Т—Б–µ–≤—Л—И–љ–µ–≥–Њ...¬ї -–Я—А–Є–Љ. —А–µ–і.), –±—Г–і—Г—З–Є –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ –Т–∞–ї–∞–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В—М –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—М, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б—В–Њ–ї—М –Њ–њ–∞—Б¬≠–љ—Л–Љ –≤—А–∞–≥–Њ–Љ: –µ–Љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –≥–љ–µ–≤–∞ –ѓ—Е–≤–µ.
–Ы—О–±–Њ–≤—М –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ –С–Њ–≥–∞ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В—Б—П –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є, –∞ –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є–µ, - –µ–≥–Њ –ї–µ–≤–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є. –Ґ–∞–Ї, –Љ—Л —З–Є—В–∞–µ–Љ –≤ III –Ъ–љ–Є–≥–µ –¶–∞—А—Б—В–≤, 22.19: ¬Ђ–ѓ –≤–Є–і–µ–ї –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞, —Б–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї–µ –°–≤–Њ—С–Љ, –Є –≤—Б—С –≤–Њ–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ —Б—В–Њ—П–ї–Њ –њ—А–Є –Э—С–Љ, –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г—О –Є –њ–Њ –ї–µ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –Х–≥–Њ¬ї. –Ь–Є–і—А–∞—И –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Є—А—Г–µ—В: ¬Ђ–Х—Б—В—М –ї–Є –≤ –≤—Л—И–љ–Є—Е –ї–µ–≤–Њ–µ –Є –њ—А–∞–≤–Њ–µ? –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Є —Б—В–Њ—П—В —Б–њ—А–∞–≤–∞, –∞ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї–Є - —Б–ї–µ–≤–∞¬ї. –Ъ–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–є –Ї —Б—В–Є—Е—Г –Ш—Б—Е–Њ–і, 15.6 (¬Ђ–Ф–µ—Б–љ–Є—Ж–∞ –Ґ–≤–Њ—П, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, –њ—А–Њ—Б–ї–∞–≤–Є–ї–∞—Б—М —Б–Є–ї–Њ—О; –і–µ—Б–љ–Є—Ж–∞ –Ґ–≤–Њ—П, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є, —Б—А–∞–Ј–Є–ї–∞ –≤—А–∞–≥–∞¬ї) —В–∞–Ї–Њ–≤: ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б—Л–љ—Л –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—В –≤–Њ–ї—О –С–Њ–≥–∞, –Њ–љ–Є –і–µ–ї–∞—О—В –µ–≥–Њ –ї–µ–≤—Г—О —А—Г–Ї—Г –њ—А–∞–≤–Њ–є. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—О—В –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї—О, —В–Њ –і–∞–ґ–µ –њ—А–∞–≤—Г—О –µ–≥–Њ —А—Г–Ї—Г –Њ–љ–Є –і–µ–ї–∞—О—В –ї–µ–≤–Њ–є¬ї.. ¬Ђ–Ы–µ–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞ –С–Њ–≥–∞ —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–µ—В –≤–і—А–µ–±–µ–Ј–≥–Є; –µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞ —Б–ї–∞–≤–љ–∞ —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В¬ї.
–Ю–њ–∞—Б–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—П –ѓ—Е–≤–µ –і–∞—С—В –Њ —Б–µ–±–µ –Ј–љ–∞—В—М –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–µ: ¬Ђ–Ш –µ—Й—С —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Т—Б–µ—Б–≤—П—В–µ–є—И–Є–є, –і–∞ –±—Г–і–µ—В –Ю–љ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–µ–љ: –Х—Б–ї–Є —П —Б–Њ—В–≤–Њ—А—О –Љ–Є—А, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–≤ –µ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –ї–Є—И—М –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–Є, –≥—А–µ—Е–Є –µ–≥–Њ –±—Г–і—Г—В –≤–µ–ї–Є–Ї–Є; –љ–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –ї–Є—И—М —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Љ–Є—А —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В. –Я–Њ—Б–µ–Љ—Г —П —Б–Њ—В–≤–Њ—А—О –Љ–Є—А, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–≤ –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є–Є –Є –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–Є, –Є –і–∞ —Г—Б—В–Њ–Є—В –Њ–љ!¬ї –Ь–Є–і—А–∞—И –љ–∞ –С—Л—В–Є–µ, 18:23 (—Е–Њ–і–∞—В–∞–є—Б—В–≤–Њ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–∞ –Ј–∞ –°–Њ–і–Њ–Љ) –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В (–Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –Р–≤—А–∞–∞–Љ–∞): ¬Ђ–Х—Б–ї–Є —В—Л —Е–Њ—З–µ—И—М, —З—В–Њ–±—Л –Љ–Є—А —Г—Б—В–Њ—П–ї, —В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Є–±–Њ –µ—Б–ї–Є —В—Л –Ј–∞—Е–Њ—З–µ—И—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –Љ–Є—А –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Б—В–Њ—П—В—М. –Э–Њ —В—Л –ґ–µ–ї–∞–µ—И—М –і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–µ—А–µ–≤–Ї—Г –Ј–∞ –Њ–±–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞, –Є–±–Њ —Е–Њ—З–µ—И—М, —З—В–Њ–±—Л –±—Л–ї–Є –Є –Љ–Є—А, –Є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–∞—П —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М. –Х—Б–ї–Є –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–µ—И—М –Љ–∞–ї–Њ–µ –њ–Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Є–µ, –Љ–Є—А –љ–µ —Г—Б—В–Њ–Є—В¬ї.
–ѓ—Е–≤–µ –Њ—В–і–∞–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ —А–∞—Б–Ї–∞—П–≤—И–Є–Љ—Б—П –≥—А–µ—И–љ–Є–Ї–∞–Љ –і–∞–ґ–µ –њ–µ—А–µ–і –њ—А–∞–≤–µ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –Є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ—В –Є—Е –Њ—В —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ¬≠—Б—Г–і–Є—П, –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—П –Є—Е —А—Г–Ї–Њ–є, –ї–Є–±–Њ –њ—А—П—З–∞ –њ–Њ–і —Б–≤–Њ–Є–Љ —В—А–Њ–љ–Њ–Љ.
–Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б—В–Є—Е–∞ –Р–≤–≤–∞–Ї—Г–Љ, 2.3 (¬Ђ–Ш–±–Њ –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –µ—Й–µ –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є... –Є —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–љ–Њ –Є –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї–Њ, –ґ–і–Є –µ–≥–Њ¬ї), —А–∞–≤–≤–Є–љ –Ш–Њ–љ–∞—Д–∞–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є –±—Л –≤—Л –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: ¬Ђ–Ь—Л –ґ–і—С–Љ (–µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞), –Њ–љ –ґ–µ –љ–µ –ґ–і—С—В¬ї, вАФ —В–Њ –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —Н—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ: ¬Ђ–Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Љ–µ–і–ї–Є—В, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Љ–Є–ї–Њ–≤–∞—В—М –≤–∞—Б¬ї (–Ш—Б–∞–є—П, 30.18)... –Э–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є –Њ–љ –ґ–і—С—В, –Є –Љ—Л –ґ–і—С–Љ, —З—В–Њ –Њ—В—Б—А–Њ—З–Є–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і? –С–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Њ—В—Б—А–Њ—З–Є–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Љ–Њ–ї–Є—В–≤—Г —А–∞–≤–≤–Є–љ–∞ –Ш–Њ—Е–∞–љ–∞–љ–∞: ¬Ђ–Ф–∞ –±—Г–і–µ—В —В–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї–µ–є, –У–Њ—Б–њ–Њ–і–Є –С–Њ–ґ–µ, –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –љ–∞ —Б—В—Л–і –љ–∞—И –Є –љ–∞ –љ–∞—И–Є –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є—П. –Ю–±–ї–µ–Ї–Є—Б—М –≤ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ —В–≤–Њ—С, –Њ–±–ї–µ–Ї–Є—Б—М –≤ —Б–Є–ї—Г, –Њ–Ї—Г—В–∞–є—Б—П —В–≤–Њ–µ—О –ї—О–±—П—Й–µ–є –і–Њ–±—А–Њ—В–Њ–є –Є –њ—А–µ–њ–Њ—П—Б–∞–є—Б—П —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є –њ—Г—Б—В—М –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б–µ—А–і–µ—З–Є–µ –Є –і–Њ–±—А–Њ—В–∞ —В–≤–Њ—П –Є–і—Г—В –њ—А–µ–і —В–Њ–±–Њ—О¬ї. –Ч–і–µ—Б—М –Ј–≤—Г—З–Є—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є –њ—А–Є–Ј—Л–≤ –Ї –С–Њ–≥—Г вАФ –њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–Њ–±—А—Л—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –і–∞–ґ–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –С–Њ–≥ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П —Б –Љ–Њ–ї–Є—В–≤–Њ–є –Ї —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б–µ–±–µ: ¬Ђ–Ф–∞ –±—Г–і–µ—В –Ь–Њ—П –≤–Њ–ї—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ь–Њ—С –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ –њ–Њ–і–∞–≤–Є–ї–Њ –Ь–Њ–є –≥–љ–µ–≤, –∞ –Ь–Њ—С —Б–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Њ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ь–Њ–Є–Љ–Є –∞—В—А–Є–±—Г—В–∞–Љ–Є¬ї, –≠—В–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї—П–µ—В—Б—П —Б–ї–µ¬≠–і—Г—О—Й–Є–Љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–Њ–Љ:
¬Ђ–†–∞–≤–≤–Є–љ –Ш—И–Љ–∞—Н–ї—М, —Б—Л–љ –≠–ї–Є—И–Є, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї: ¬Ђ–Ю–і–љ–∞–ґ–і—Л —П –≤–Њ—И—С–ї –≤ —Б–≤—П—В–∞—П —Б–≤—П—В—Л—Е, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ—Б–Ї—Г—А–Є—В—М —Д–Є–Љ–Є–∞–Љ, –Є —В–∞–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Р–Ї–∞—В—А–Є—Н–ї—П [24] –ѓ—Е–≤–µ –Ч–µ–±–∞–Њ—В–∞, –≤–Њ—Б—Б–µ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ–Љ —В—А–Њ–љ–µ. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ: ¬Ђ–Ш–Љ–Љ–∞—Н–ї—М, —Б—Л–љ –Љ–Њ–є, –±–ї–∞–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є –Љ–µ–љ—П! –Ш —П –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї: ¬Ђ–Ф–∞ –±—Г–і–µ—В —В–≤–Њ–µ–є –≤–Њ–ї–µ–є, —З—В–Њ–±—Л –Ґ–≤–Њ—С –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є–µ –њ–Њ–і–∞–≤–Є–ї–Њ –Ґ–≤–Њ–є –≥–љ–µ–≤, –∞ –Ґ–≤–Њ—С —Б–Њ—Б—В—А–∞¬≠–і–∞–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Њ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Ґ–≤–Њ–Є–Љ–Є –∞—В—А–Є–±—Г—В–∞–Љ–Є, –і–∞–±—Л –Ґ—Л –Љ–Њ–≥ –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П —Б —В–≤–Њ–Є–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б –∞—В—А–Є–±—Г—В–Њ–Љ –Љ–Є–ї–Њ—Б–µ—А–і–Є—П –Є –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—П!¬ї –Ш –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –Љ–љ–µ –Ї–Є–≤–Ї–Њ–Љ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л¬ї.
–Ш–Ј —Н—В–Є—Е —Ж–Є—В–∞—В –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–Ј¬≠–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–≥–∞ –Ш–Њ–≤–∞. –Ю–љ —Б—В–∞–ї –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л—Е —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤–љ—Г—В—А–Є –Є—Г–і–∞–Є–Ј–Љ–∞, –∞ –њ—А–Є –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ –Ї–∞–±–±–∞–ї—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –ѓ–Ї–Њ–±–∞ –С–µ–Љ–µ. –Т –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В¬≠—Б—П —Б—Е–Њ–і–љ–∞—П –∞–Љ–±–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М, –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ вАФ –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–±–Њ–≤—М—О –С–Њ–≥–∞ –Є –µ–≥–Њ ¬Ђ–Њ–≥–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –≥–љ–µ–≤–Њ–Љ¬ї, –≤ –Ї–Њ–µ–Љ –≤–µ—З–љ–Њ –≥–Њ—А–Є—В –Ы—О—Ж–Є—Д–µ—А.
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П вАФ –љ–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞, –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є–Ј –µ—С —Г—В¬≠–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї¬≠–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–Є –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –Є–Љ –µ–≥–Њ [25]. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В¬≠–љ–Њ, —З—В–Њ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–µ, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –∞–Ї—В–Њ–≤ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є —З—В–Њ –±–µ–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ. –Э–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ—З—В–Њ —Б—В–Њ–ї—М —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –∞–Ї—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–Њ –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞. –У–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –њ—А–Њ—Й–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞—И–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –і–∞–µ—В –њ–µ—А–≤–Є—З–љ–Њ–µ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤–µ—Й–∞–Љ –Є –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є, –∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—С—В —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П —В–∞–Љ, –≥–і–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ.
–ѓ —Б—В–Њ–ї—М –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ —Г–≥–ї—Г–±–Є–ї—Б—П –≤ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Г privatio boni –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞ –Ј–∞ —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А –Њ–њ—В–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –Ј–ї–∞ –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Є –Ј–∞ —З–µ—А–µ—Б—З—Г—А –њ–µ—Б—Б–Є–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї—Г—О –і—Г—И—Г. –Ф–ї—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—П —А–∞–љ–љ–µ–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Б –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ –•—А–Є—Б—В—Г –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞. –Ш–±–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ ¬Ђ–≤–µ—А—Е–µ¬ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В ¬Ђ–љ–Є–Ј–∞¬ї, –Њ ¬Ђ–њ—А–∞–≤–Њ–Љ¬ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В ¬Ђ–ї–µ–≤–Њ–≥–Њ¬ї, –Њ ¬Ђ–і–Њ–±—А–µ¬ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ—В ¬Ђ–Ј–ї–∞¬ї, –µ—Б–ї–Є –Њ–і–љ–Њ –љ–µ —В–∞–Ї –ґ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –і—А—Г–≥–Њ–µ? –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ –і—М—П–≤–Њ–ї –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –Љ–Є—А –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–µ—Б–∞ –С–Њ–≥—Г: вАФ –Є, –Ї–∞–Ї —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Њ—Б—М, –≤ —А–∞–љ–љ–Є—Е –Є—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е –°–∞—В–∞¬≠–љ–∞ —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П —Б—В–∞—А—И–Є–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М –µ—Й—С –Њ–і–љ–∞ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –њ–Њ–і—З—С—А–Ї–Є–≤–∞—В—М –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ privatio boni. –£–ґ–µ —Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—О –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –Ј–ї–Њ –њ—А–µ–і—А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ¬≠–ґ–µ–љ–Є—О –і—Г—И–Є –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–і–µ–ї—П—В—М –µ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ ¬Ђ–љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Ј–ї–Њ —Г —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—В–µ–Ї–∞–µ—В –Є–Ј —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—П, –Њ–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –ї–Є—И—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–±–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–∞, –∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–∞—П quantit√© n√©gligeable (–≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ—З—М (—Д—А–∞–љ—Ж.)), —З—В–Њ –Ј–ї–Њ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ —А–∞—Б—В–≤–Њ—А—П–µ—В¬≠—Б—П, –Ї–∞–Ї –і—Л–Љ. –Ы–µ–≥–Ї–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є–µ, –≤ –µ–≥–Њ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Ј–ї–∞, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –≤—Б–µ—А—М—С–Ј: –љ–Њ —Н—В–Њ вАФ —Д–∞–Ї—В–Њ—А, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б–Љ–µ–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є. –Ь—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞—В—М –Є–љ–∞—З–µ, –µ—Б–ї–Є –Ј–∞—Е–Њ—В–Є–Љ. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М вАФ –љ–µ—З—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–∞—О—Й–µ–µ, –Ї–∞–ґ—Г—Й–µ–µ¬≠—Б—П –љ–µ—А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ –Ї –љ–µ–є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —З–Є—Б—В–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ–є –Њ—И–Є–±–Ї–Є, –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–∞. –Ю—Б—В–∞—С—В—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –і–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Љ—Л –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Ї—Г –≤ –љ–∞—И–µ–є –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є –љ–µ–і–Њ¬≠–Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –њ—Б–Є—Е–µ. –Я—А–µ–і—А–∞—Б—Б—Г–і–Њ–Ї —Н—В–Њ—В —В–µ–Љ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–µ–µ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–≥–Њ –≤ –њ—Б–Є—Е–µ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞¬≠–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–ї–∞. –Ю—В—Ж—Л –¶–µ—А–Ї–≤–Є –≤—А—П–і –ї–Є —Г—Б–њ–µ–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, –Ї–∞–Ї—Г—О —Д–∞—В–∞–ї—М–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М –Њ–љ–Є –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–ї–Є –і—Г—И–µ. –Э–∞–і–Њ –±—Л—В—М —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Б–ї–µ–њ—Л–Љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Ї–Њ–ї–Њ—Б—Б–∞–ї—М¬≠–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Ј–ї–∞ –≤ –Љ–Є—А–µ. –Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞, –і–∞–±—Л –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ—В –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є—П –Ј–ї–∞, –Є–±–Њ –±–µ–Ј —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ–≥–Є–± –±—Л. –Х—Б–ї–Є —Б—В–Њ–ї—М –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–∞—П —Б–Є–ї–∞ –Ј–ї–∞ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞¬≠–µ—В—Б—П –і—Г—И–µ, —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Є–љ—Д–ї—П—Ж–Є—П вАФ —В–Њ –µ—Б—В—М –і–µ–Љ–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–Є –љ–∞ –≤–ї–∞—Б—В—М —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –µ—Й—С —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —Г–≥—А–Њ–Ј—Г. –≠—В–Є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П, –њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞, –њ—А–µ—В–≤–Њ—А–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –≤—А–µ¬≠–Љ–µ–љ–Є, –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Н—А–µ –†—Л–±, –љ—Л–љ–µ –±–ї–Є–Ј—П—Й–µ–є—Б—П –Ї –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—О.
–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г–є—В–µ—Б—М —З—В–Њ–±—Л —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б—Б—Л–ї–Ї—Г
–Ь–Ю–Щ –Ъ–Р–С–Ш–Э–Х–Ґ viewforum.php?f=1313
- –°–Ш–Ы–ђ–§
- –Ф–Ш–Р–У–Э–Ю–°–Ґ
-

- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є: 965
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: 19 –Љ–∞—А 2018, 13:53
–•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є
–Т –Љ–Є—А–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Є–і–µ–є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–µ–і¬≠—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М [26]. –С—Г–і—Г—З–Є –∞–њ–Њ—Д–µ–Њ–Ј–Њ–Љ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М –Є–Љ–µ–µ—В –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –µ–і–Є–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤¬≠–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ, –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–µ–µ —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–µ –Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –Њ–љ–Њ –њ–Њ–і–і–∞–µ—В—Б—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞—Е –∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ–Є–є [27]; —В–Њ –µ—Б—В—М, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л —Е–Њ—В–Є–Љ –і–∞—В—М –≤–µ—А–љ—Г—О —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї—Г —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –∞—В—А–Є–±—Г—В—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –Є—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є. –Я—А–Њ—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ –Ї–≤–∞—В–µ—А–љ–Є–Њ–љ–∞ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–є:
–Т —Н—В–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –Є –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ъ–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –µ–і–Є–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–љ –Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї–µ–љ; –Ї–∞–Ї –С–Њ–≥, –Њ–љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї–µ–љ –Є –≤–µ—З–µ–љ. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –µ–і–Є–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞ –Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞: –љ–Њ –Ї–∞–Ї –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї, –Њ–љ–∞ –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–∞ –Є –≤–µ—З–љ–∞ [28]. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В –•—А–Є—Б—В–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ–і–Њ–±—А—Л–Љ¬ї –Є ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–≤¬≠–љ—Л–Љ¬ї, –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –љ–µ—З—В–Њ ¬Ђ–Ј–ї–Њ–µ¬ї –Є ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ—Е—В–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ¬ї, —А–µ–њ¬≠—А–µ–Ј–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–µ–µ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞. –Я–Њ–ї—Г—З–∞—О—Й–Є–є—Б—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–≤–∞—В–µ—А–љ–Є–Њ–љ –≤ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ —В–µ–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–µ—З—В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ–µ" –Є ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ¬ї; –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –µ—С —В–µ–љ—М –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ—А–љ–Њ–є. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ—В –љ—Г–ґ–і—Л –Њ—В–і–µ–ї—П—В—М –Њ—В —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—О—Б–∞ –і–ї—П ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ¬≠–≥–Њ¬ї –Є ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ¬ї:
–≠—В–Њ—В –Ї–≤–∞—В–µ—А–љ–Є–Њ–љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–∞¬≠–Љ–Њ—Б—В—М. –С—Г–і—Г—З–Є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–љ, –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О, –і–Њ¬≠–ї–ґ–µ–љ –≤–Ї–ї—О—З–∞—В—М –≤ —Б–µ–±—П —Б–≤–µ—В–ї—Л–є –Є —В—С–Љ–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ, –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –±—А–∞—З–љ—Л–Љ quaternio. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є вАФ –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ, –Є–±–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ш–њ–њ–Њ–ї–Є—В—Г, –Њ–љ –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Э–∞–∞—Б—Б–µ–љ–∞–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є ¬Ђmysterium conjunctionis¬ї (¬Ђ—В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П¬ї (–ї–∞—В.)), –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –±—А–∞—З–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ [29] –Є –≤ –≤–Є–і–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤¬≠–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –Љ–∞–љ–і–∞–ї–∞—Е, —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ —А–Є—Б—Г–µ¬≠–Љ—Л—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞–Љ–Є.
–Ю—З–µ–љ—М —А–∞–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М—Б—П –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ш–Є—Б—Г—Б, —Б—Л–љ –Ь–∞—А–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П principium individuationis (–љ–∞—З–∞–ї–Њ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є (–ї–∞—В.)). –Ґ–∞–Ї, –Ш–њ–њ–Њ–ї–Є—В –њ–µ—А–µ–і–∞—С—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–і–∞: ¬Ђ–Ш —В–µ–њ–µ—А—М –Ш–Є—Б—Г—Б —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є, –њ—А–Є–љ–µ¬≠—Б—С–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є—А–Њ–і –Є –°—В—А–∞—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–Є –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Є–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, –Ї–∞–Ї –і–ї—П —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є. –Ш–±–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ, —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –±—Л–≤—И–µ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б¬≠—В–Њ—П–љ–Є–Є, ... –љ—Г–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤¬≠–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–µ–Љ –њ—Г—В—С–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –±—Л–ї —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ –Ш–Є—Б—Г—Б.¬ї –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–µ–љ–Є—О –Т–∞—Б–Є–ї–Є–і–∞, ¬Ђ–љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є¬ї –С–Њ–≥ –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї —В—А–Њ–є–љ–Њ–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ. –Я–µ—А–≤—Л–є ¬Ђ—Б—Л–љ¬ї, —З—М—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –Є —З–Є—Б—В–Њ–є, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г —Б –Ю—В—Ж–Њ–Љ. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Б—Л–љ, —З—М—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –≥—А—Г–±–µ–µ, —Б–њ—Г—Б¬≠—В–Є–ї—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є–ґ–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –і–∞–љ—Л –љ–µ–Ї–Є–µ –Ї—А—Л–ї—М—П, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —В–µ–Љ, –Ї–Њ–Є–Љ–Є –Я–ї–∞—В–Њ–љ... –љ–∞–і–µ–ї—П–µ—В –і—Г—И—Г –≤ ¬Ђ–§–µ–і—А–µ¬ї. –Ґ—А–µ—В–Є–є —Б—Л–љ –љ–Є–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–∞–ї –≤ ¬Ђ–±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ¬≠–љ–Њ—Б—В—М¬ї, –Є–±–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –љ—Г–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є–Є.
–≠—В–Њ —В—А–µ—В—М–µ ¬Ђ—Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ¬ї, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, вАФ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥—А—Г¬≠–±–Њ–µ –Є —В—П–ґ—С–ї–Њ–µ, –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ—В—Л. –Э–µ—В—А—Г–і–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤ —Н—В–Є—Е —В—А—С—Е —Н–Љ–∞–љ–∞—Ж–Є—П—Е –Є–ї–Є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞—Ж–Є—П—Е –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞ —В—А–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є—О –і—Г—Е–∞, –і—Г—И–Є –Є —В–µ–ї–∞. –Ф—Г—Е –µ—Б—В—М –љ–µ—З—В–Њ —З–Є—Б—В–µ–є—И–µ–µ –Є –≤—Л—Б–Њ¬≠—З–∞–є—И–µ–µ; –і—Г—И–∞ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ ligamentum Spiritus et corporis (—Б–≤—П–Ј–Ї–∞ –і—Г—Е–∞ –Є —В–µ–ї–∞ (–ї–∞—В.)) –≥—А—Г–±–µ–µ, —З–µ–Љ –і—Г—Е, –љ–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В ¬Ђ–Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є –Њ—А–ї–∞¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–є –≤–µ—Б –Ї –≤—Л—Б—И–Є–Љ —Б—Д–µ—А–∞–Љ. –Ю–±–∞ –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ—О—В —В–Њ–љ–Ї—Г—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Г –Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —Н—Д–Є—А—Г –Є–ї–Є –Њ—А–ї—Г, –Њ–±–Є—В–∞—О—В –≤–±–ї–Є–Ј–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–≤–µ—В–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —В–µ–ї–Њ, –±—Г–і—Г—З–Є —В—П–ґ—С–ї—Л–Љ, —В—С–Љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ—З–Є—Б—В—Л–Љ, –ї–Є—И–µ–љ–Њ —Б–≤–µ—В–∞, –љ–Њ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –≤ —Б–µ–±–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–µ–Љ—П —В—А–µ—В—М¬≠–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–∞, вАФ —Е–Њ—В—П –Є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ¬≠–љ–Њ–µ. –≠—В–Њ —Б–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ, –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Њ –Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ –Ї –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О [30], –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–і–µ¬≠–ї–µ–љ—Л –≤ –Ш–Є—Б—Г—Б–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –°—В—А–∞—Б—В–µ–є (—В–Њ –µ—Б—В—М –µ–≥–Њ —З–µ—В–≤–µ—А¬≠—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П) [31]. –Ш–Є—Б—Г—Б, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–Њ–Љ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–∞, –і—А–µ–Љ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ —В—М–Љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –Ю–љ вАФ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї". –Ю–љ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ–ї–љ—Г—О —В—А–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є—О, –Є–±–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ, —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ь–∞—А–Є–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Њ –њ–ї–Њ—В–Є, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ґ–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В¬≠–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —Б—Л–љ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –∞—А—Е–Њ–љ–∞ —Б–µ–і–Љ–µ—А–Є—Ж—Л (¬Ђ–≥–µ–њ—В–∞–і—Л¬ї), –∞ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —Б—Л–љ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –∞—А—Е–Њ–љ–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–µ—А–Є—Ж—Л (¬Ђ–Њ–≥–і–Њ–∞–і—Л¬ї), –і–µ–Љ–Є—Г—А–≥ –ѓ—Е–≤–µ. –≠—В–∞ —В—А–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є—П —Д–Є–≥—Г—А —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ вАФ –Р–љ—В—А–Њ-–њ–Њ—Б вАФ –≤ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В—А–µ–Љ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–∞–Љ –љ–µ-—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞ –Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –љ–∞ —В—А–Є —З–∞—Б—В–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–µ–Љ —В—А–Є —В—А–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є–Є:
–Я–µ—А–≤–Њ–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –Т–Њ—Б—М–Љ–µ—А–Є—Ж—Л вАФ –Ф—Г—Е
–Т—В–Њ—А–Њ–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –°–µ–і–Љ–µ—А–Є—Ж—Л вАФ –Ф—Г—И–∞
–Ґ—А–µ—В—М–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –°—Л–љ –Ь–∞—А–Є–Є вАФ –Ґ–µ–ї–Њ
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б—Д–µ—А–µ —В—С–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —В—П–ґ—С–ї–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–∞ –љ–∞–і–Њ –Є—Б–Ї–∞—В—М amorfia, ¬Ђ–±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Ї—А—Л—В–Њ —В—А–µ—В—М–µ —Б—Л–љ–Њ–≤¬≠—Б—В–≤–Њ. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Є–Ј —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ, —Н—В–∞ –±–µ—Б—Д–Њ—А¬≠–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–Њ—З—В–Є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–∞ ¬Ђ–±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Т—Б–µ —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ вАФ amorfia, agnwsia –Є anohton вАФ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –љ–∞ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ¬≠–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —Г–і–∞—З–љ–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –Т–∞—Б–Є–ї–Є–і–Њ–Љ –Ї–∞–Ї ¬Ђouk on sperma toue kosmou polumorfon oemoue kai poluousion¬ї (¬Ђ–љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –Љ–љ–Њ¬≠–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Д–Њ—А–Љ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—О—Й–µ–µ –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ–Љ—П –Љ–Є—А–∞¬ї).
–Ґ–∞–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ–µ –≤ —З—С–Љ –∞–љ–∞¬≠–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г filius philosophorum (–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, ¬Ђ—Б—Л–љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤¬ї (–ї–∞—В.), –≤ –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Є вАФ ¬Ђ–≥–µ—А–Љ–∞—Д—А–Њ–і–Є—В, –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–є¬ї) –Є filius macrocosmi (—Б—Л–љ –Љ–∞–Ї—А–Њ–Ї–Њ—Б–Љ–∞ (–ї–∞—В.)), —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ –і—А–µ–Љ–ї—О—Й—Г—О –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–Є –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –і—Г—И—Г [32]. –Ф–∞–ґ–µ —Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є–і–∞ —В–µ–ї–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ¬≠—В–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Г—О, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Г—О –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –љ—С–Љ –Є –≤ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ —В—А–µ—В—М —П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –С–Њ–ґ–µ—Б¬≠—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ–ї—П –љ—Г–Љ–Є–љ–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є; —П —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–µ–є –≤ –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Є –Є вАФ –і–∞–ї–µ–µ вАФ –≤ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї–∞—Е. –° –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В—А–µ—В—М–µ–Љ—Г —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤—Г –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–Њ–Љ ¬Ђ–њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ¬ї, –Є–±–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –°—В—А–∞—Б—В—П–Љ –Є —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ¬≠–љ—Л–Љ–Є, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В—А–µ—В—М–µ–Љ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–µ –Њ–љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є —В–∞–Ї: –≤ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б–Ї—А—Л—В–Њ–µ –Ј–µ—А–љ–Њ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ—Г –Ш–Є—Б—Г—Б–∞. –Ъ–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ш–Є—Б—Г—Б –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –ї–Є—И—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–µ—В—Г, –Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–Љ—Г –Њ—В –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–≤—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –≤ –љ—С–Љ, —В–∞–Ї –Є —Б–µ–Љ—П –≤ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б¬≠—В–≤–∞ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Б–≤–µ—В–∞, –Є–Ј–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ, –Є –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б¬≠—В–µ–є. –Ґ–∞–Ї–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–љ–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П—Е –і–∞–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ —Б–Њ–Ј¬≠–љ–∞–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ —Н—В–Є —Б–љ—Л [33].
–Ь–љ–µ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—В—М –≥–ї–∞–≤—Г –±–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є, —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ–љ—П –≤—Л¬≠–љ—Г–ґ–і–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —В–Њ—З–Ї–∞ –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —З—М–Є–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ—Б–Є—Е–µ, –њ–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –Є –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –µ—Б–ї–Є —П, —А–Є—Б–Ї—Г—П –њ–Њ–≤—В–Њ¬≠—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Б—М –Ї –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –∞–Ј–Њ–≤, —П –і–µ–ї–∞—О —Н—В–Њ –ї–Є—И—М –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Г–њ—А–µ–і–Є—В—М –ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –Є –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –Њ—В —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А¬≠–љ—Л—Е —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–µ–є.
–Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Г—О –Љ–љ–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М –Љ–µ–ґ–і—Г –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –Є —Б–∞¬≠–Љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–і–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О вАФ —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М —Б —А—Л–±–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Ю –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ —Б—Д–µ—А—Г –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤–µ—А—Л, –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ—В –Є —А–µ—З–Є. –Ю–±—А–∞–Ј—Л –С–Њ–≥–∞ –Є –•—А–Є—Б—В–∞, –њ—А–Њ–µ—Ж–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–µ –±—Л—В—М –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–Љ–Є вАФ —З—В–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—С—В¬≠—Б—П; –њ–Њ—Б–µ–Љ—Г, –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –ї—О–±—Л–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞–Љ. –Ъ–∞–Ї –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —А—Л–±—Л —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В –Њ –•—А–Є—Б—В–µ –љ–µ—З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Ї–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Є—Е –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М —Б –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ—А–Њ—П—Б–љ–µ–љ–Є—О –Є —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—О –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Њ–±—А–∞¬≠–Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –° —Е–Њ–і–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —А—Л–±—Л –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б—З–µ–Ј; –Є—Б—З–µ–Ј –Є lapis philosophorum (—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М (–ї–∞—В.)). –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–є, –њ–Њ-–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ—Г –≤—Л—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –µ–≥–Њ; –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–µ –≤ –љ–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П¬≠–і—Л –Є –Є–і–µ–Є –љ–∞–і–µ–ї—П—О—В –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—И—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П: –љ–µ –±—Л–ї –ї–Є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≤–Ј—П—В –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –Ї–∞–Љ–љ—П, –∞ –љ–µ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –Ґ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ, –љ–µ –±–µ–Ј –Њ–њ–Њ—А—Л –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–µ –Є–і–µ–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–є –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Є –Я–∞–≤–ї–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–µ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ —Б—Д–µ—А—Г –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–µ–µ –µ–≥–Њ –≤ —Д–Є–≥—Г—А—Г —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –≠—В–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О —Б–≤—П–Ј–∞—В—М —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В¬≠–≤–∞–Љ–Є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є¬≠–Љ–Њ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Є–Ї–Є, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А¬≠–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ –µ–≥–Њ –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–∞—Е. –Ґ–∞–Ї, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ —В–Њ—В, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Ї–∞–Љ–Є: —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є–ї–Є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б вАФ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є?
–Ф–∞–љ–љ–∞—П –Љ–Њ—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –≤—В–Њ—А—Г—О –Є–Ј –∞–ї—М—В–µ—А¬≠–љ–∞—В–Є–≤. –ѓ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –•—А–Є—Б—В–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А—Г–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ вАФ –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–Њ–Є —Ж–µ–ї—М –Є –Љ–µ—В–Њ–і –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –љ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О—В –љ–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ, —З–µ–Љ —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, —Г—Б–Є–ї–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П, –≤–љ–µ—Б—И–Є–µ –≤–Ї–ї–∞–і –≤ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–∞. –Ґ–∞–Ї, –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ –Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –≤ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —В–µ–Ї—Б—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л—Е –µ–Љ—Г —П–≤–ї–µ–љ–Є–є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—Д–µ—А —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є: –Њ–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –≤–µ–Ј–і–µ—Б—Г—Й–Є–є —Д–∞–Ї—В –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤—Б—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –ґ–Є–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—О –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞, —З–µ–Љ –Є–і–µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ъ–∞–Ї —П —Г–ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–∞—Б—М —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М lapis –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–і –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–∞–ї—С–Ї –Њ—В –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –Љ–Є—Б¬≠—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤, —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —З—В–Њ –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—О –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–µ –≤–µ—А—Л, –∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ —Д–∞–Ї—В—Л. –Х—Б–ї–Є –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —Б–Є–ї—Г –∞—А—Е–µ—В–Є–њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М –µ—С —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ, –µ–Љ—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–≤–µ—А¬≠—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ю–±—А–∞–Ј –•—А–Є—Б—В–∞ –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ¬≠–≤–µ—А—И–µ–љ–µ–љ (–њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ), –∞—А—Е–µ—В–Є–њ –ґ–µ (–љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ) –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ¬≠–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–∞–ї–µ–Ї –Њ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ–Њ–њ–Є—Б—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–ї–µ–і—Г—О¬≠—Й–∞—П –Є–Ј –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –µ—С –≤–µ—А—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –≤–µ–і—С—В –Ї —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ¬≠—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г, –Ї –і–Њ–њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–µ—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є (–љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–є –Њ —А–∞—Б–њ—П—В–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–µ, –њ–Њ–і–≤–µ—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П —А–∞–Ј¬≠–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є) –Є –Ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Є—И—С–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞. –°—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї ¬Ђ—В–µ–ї–µ–є–Њ—Б–Є—Б—Г¬ї (–Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М (–≥—А–µ—З.)) –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞ вАФ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ–µ, –љ–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–Њ—Й¬≠–љ–µ–є—И–Є—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –≠—В–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й—Г—О —Б—В—А–∞—Б—В—М, —Б—В–∞–≤—П¬≠—Й—Г—О –≤—Б—С —Б–µ–±–µ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г. –Э–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М –±—Л –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –∞—А—Е–µ—В–Є–њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В —Б–µ–±—П –≤ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —Н—В–Њ вАФ teleiosi –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞. –Х—Б–ї–Є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В¬≠–≤–Њ–≤–∞—В—М, –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П–Љ, –љ–Њ –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б –∞—А—Е–∞–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞. –Ш–љ–і–Є–≤–Є–і –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г (¬Ђ–Ш—В–∞–Ї –±—Г–і—М—В–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л вАФ teleioi вАФ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–µ–љ –Ю—В–µ—Ж –≤–∞—И –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–є¬ї), –љ–Њ –±—Г–і–µ—В –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ —Б—В—А–∞–і–∞—В—М –Њ—В —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ, –≤–Њ –Є–Љ—П –µ–≥–Њ –і–Њ–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞–њ–µ—А–µ–Ї–Њ—А –µ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П–Љ. ¬Ђ–Ш—В–∞–Ї —П –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Е–Њ—З—Г –і–µ–ї–∞—В—М –і–Њ–±—А–Њ–µ, –њ—А–Є–ї–µ–ґ–Є—В –Љ–љ–µ –Ј–ї–Њ–µ¬ї.
–Ю–±—А–∞–Ј –•—А–Є—Б—В–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В —Н—В–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є: –•—А–Є—Б—В–Њ—Б вАФ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—И–Є–є—Б—П —А–∞—Б–њ—П—В–Є—О. –Т—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї–Є —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–∞—П –Є–і–µ—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–∞—П –≤ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–Њ–є, –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞—В—М—Б—П —Б —Н—В–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–±–Њ –Њ–љ–∞, —Е–Њ—В—П –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ, –ї–Є—И–µ–љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Є–і–µ—П–Љ –∞—В–Љ–∞–љ–∞ [34] –Є –і–∞–Њ, —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–Љ—Б—П —Б –љ–µ—О, –Є–і–µ—П —Б–∞¬≠–Љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ –љ–∞ –≤–µ—А–µ, –Є –љ–µ –љ–∞ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—П—Е, –∞ –љ–∞ —В–Њ–Љ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–µ, —З—В–Њ –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю—В—Б—О–і–∞ –Љ—Л –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Є –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –љ—Г–Љ–Є–љ–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ш –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞—В—М —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –ї—О–±–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Є–і–µ¬≠—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —В–∞–Ї –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Н—В–Њ. –Я–Њ—П–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б¬≠—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –≤ —Ж–µ–љ—В—А –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –љ–∞–і–µ–ї—П¬≠–µ—В—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –љ–µ–Љ. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—В –ї–Є—И—М –Ї–∞–Ї –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б, –Є–±–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–Љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А¬≠–љ–∞ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —В—А–∞—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ї–Є—И—М –Њ–љ–∞ –Њ–і–љ–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М –Є—Е –њ—А–Є—А–Њ–і—Г, –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞—О—Й—Г—О—Б—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О.
–Т–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ–Є–Ј¬≠–±–µ–ґ–љ—Л–Љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ—Б¬≠—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞, –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ¬≠—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–µ –†–∞—Б–њ—П—В–Є—П вАФ —Н—В–Њ–є –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–Њ—Б—В—А—С–љ–љ–Њ –Њ—Й—Г—Й–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–Є—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –ї–Є—И—М —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є ¬Ђconsummatum est¬ї (–Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ, –і–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ (–ї–∞—В.)). –£–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є–µ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –Є–і—С—В –≤ –Њ–±—Е–Њ–і —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞; —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–љ–Њ –≤ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є¬≠—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е ¬Ђ–Є—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ –±—Л –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞¬≠—З–µ–љ–Є—П. ¬Ђ–Ш—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б –њ–ї–µ—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≥—А—Г–Ј, –Ї–Њ–µ–≥–Њ –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–Ј–≤–∞–ї–Є–≤–∞—В—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ—Л–є¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–љ–∞–µ—В, –љ–∞¬≠—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –љ–µ–њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–Љ –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —П –Љ–Њ–≥—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ, —Б —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–µ–ї—М–Ј—П –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ї—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї –і–ї—П —Б–µ–±—П –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ¬≠–Љ—Г—О –љ–∞–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З—Г –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ—В–љ–µ—Б—Б—П –Ї –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –љ–∞—И–µ–є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –Ї –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ –њ–Њ–і–Њ–є–і–µ—В –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ј–љ–∞¬≠—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –Є–љ—В–µ–љ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ, —В–Њ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В¬≠–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –±—А–µ–Љ—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ¬≠–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –µ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –і–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ¬ї —Б –љ–Є–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–Є –Є –≤ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ. –Х—Б–ї–Є —Г–ґ –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М—Б—П –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О —П–Љ—Г, –ї—Г—З—И–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–µ–Њ–±¬≠—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –∞ –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М —Б–µ–±—П —А–Є—Б–Ї—Г —Б–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П –≤ –љ–µ—С —Б–њ–Є–љ–Њ–є.
–Э–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Е—А–Є—Б¬≠—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–Њ–њ—А—П–ґ–µ–љ–∞ —Б –Є—Е –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В—Г¬≠–∞—Ж–Є–µ–є. –Э–∞–Љ —Н—В–∞ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В—Г–∞—Ж–Є—П –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –Њ–і–љ–∞¬≠–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –љ–µ—С —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ–Љ –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞, —Б –µ–≥–Њ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—В–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞. –Т–ї–Є—П–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –љ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –≤ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є—П—Е –Ш–љ–і–Є–Є –Є –Ъ–Є—В–∞—П. –Э–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П—Б—М –Њ—В –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В¬≠—Б—В–≤—Г–µ—В –ї–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ —Н—В–Њ –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ¬≠–љ–Њ—Б—В–µ–є –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г —Г—А–Њ–≤–љ—О –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Є —Ж–µ–љ–Њ–є —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є, —П –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—З—Г –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ—П—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –≤ –Љ–Є—А–µ –±—Г–і–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–µ—В–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П, –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞–љ–µ–µ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ—В–Њ –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –≥–ї–∞—Б–Є—В, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П, –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Б—Г–і—М–±–µ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М, –µ—Б–ї–Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –љ–µ–і–µ–ї–Є–Љ—Л–Љ, –љ–Њ –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—С—В —Б–≤–Њ—О —Б–Њ–±—Б—В¬≠–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, —В–∞—П—Й—Г—О—Б—П –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–µ–≥–Њ, –Љ–Є—А –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Г–і–µ—В —А–∞–Ј—Л–≥—А–∞—В—М —Н—В–Њ—В –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –Є —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ—В—М—Б—П –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г.
–Т —Н—В–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –Є –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ъ–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –µ–і–Є–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–љ –Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї–µ–љ; –Ї–∞–Ї –С–Њ–≥, –Њ–љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї–µ–љ –Є –≤–µ—З–µ–љ. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–Ї —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –µ–і–Є–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞ –Є —Г–љ–Є–Ї–∞–ї—М–љ–∞: –љ–Њ –Ї–∞–Ї –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї, –Њ–љ–∞ –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–≥–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–∞ –Є –≤–µ—З–љ–∞ [28]. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В –•—А–Є—Б—В–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ ¬Ђ–і–Њ–±—А—Л–Љ¬ї –Є ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–≤¬≠–љ—Л–Љ¬ї, –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –љ–µ—З—В–Њ ¬Ђ–Ј–ї–Њ–µ¬ї –Є ¬Ђ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ—Е—В–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ¬ї, —А–µ–њ¬≠—А–µ–Ј–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–µ–µ –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В–∞. –Я–Њ–ї—Г—З–∞—О—Й–Є–є—Б—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–≤–∞—В–µ—А–љ–Є–Њ–љ –≤ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ —В–µ–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–µ—З—В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ–µ" –Є ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–µ¬ї; –Ї–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –µ—С —В–µ–љ—М –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ—А–љ–Њ–є. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —В–µ–њ–µ—А—М –љ–µ—В –љ—Г–ґ–і—Л –Њ—В–і–µ–ї—П—В—М –Њ—В —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—О—Б–∞ –і–ї—П ¬Ђ–і–Њ–±—А–Њ¬≠–≥–Њ¬ї –Є ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ¬ї:
–≠—В–Њ—В –Ї–≤–∞—В–µ—А–љ–Є–Њ–љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–∞¬≠–Љ–Њ—Б—В—М. –С—Г–і—Г—З–Є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–љ, –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О, –і–Њ¬≠–ї–ґ–µ–љ –≤–Ї–ї—О—З–∞—В—М –≤ —Б–µ–±—П —Б–≤–µ—В–ї—Л–є –Є —В—С–Љ–љ—Л–є –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–µ, –Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–µ, –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –±—А–∞—З–љ—Л–Љ quaternio. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є вАФ –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –љ–Њ–≤–Њ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ, –Є–±–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ш–њ–њ–Њ–ї–Є—В—Г, –Њ–љ –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Э–∞–∞—Б—Б–µ–љ–∞–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є ¬Ђmysterium conjunctionis¬ї (¬Ђ—В–∞–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П¬ї (–ї–∞—В.)), –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—Й—Г—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –±—А–∞—З–љ—Л–є —Б–Њ—О–Ј –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ [29] –Є –≤ –≤–Є–і–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤¬≠–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –Љ–∞–љ–і–∞–ї–∞—Е, —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ —А–Є—Б—Г–µ¬≠–Љ—Л—Е –њ–∞—Ж–Є–µ–љ—В–∞–Љ–Є.
–Ю—З–µ–љ—М —А–∞–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В—М—Б—П –Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ш–Є—Б—Г—Б, —Б—Л–љ –Ь–∞—А–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П principium individuationis (–љ–∞—З–∞–ї–Њ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є (–ї–∞—В.)). –Ґ–∞–Ї, –Ш–њ–њ–Њ–ї–Є—В –њ–µ—А–µ–і–∞—С—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–і–∞: ¬Ђ–Ш —В–µ–њ–µ—А—М –Ш–Є—Б—Г—Б —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–≤–Њ–є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є, –њ—А–Є–љ–µ¬≠—Б—С–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Є—А–Њ–і –Є –°—В—А–∞—Б—В–Є –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–ї–Є –Љ–µ—Б—В–Њ –љ–Є –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –Є–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, –Ї–∞–Ї –і–ї—П —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Л—Е –≤–µ—Й–µ–є. –Ш–±–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–љ, —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –±—Л–≤—И–µ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤ –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Б¬≠—В–Њ—П–љ–Є–Є, ... –љ—Г–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –љ–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤¬≠–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–µ–Љ –њ—Г—В—С–Љ, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –±—Л–ї —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ –Ш–Є—Б—Г—Б.¬ї –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–Љ—Г —Г—З–µ–љ–Є—О –Т–∞—Б–Є–ї–Є–і–∞, ¬Ђ–љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є¬ї –С–Њ–≥ –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї —В—А–Њ–є–љ–Њ–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ. –Я–µ—А–≤—Л–є ¬Ђ—Б—Л–љ¬ї, —З—М—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–љ–Ї–Њ–є –Є —З–Є—Б—В–Њ–є, –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –љ–∞–≤–µ—А—Е—Г —Б –Ю—В—Ж–Њ–Љ. –Т—В–Њ—А–Њ–є —Б—Л–љ, —З—М—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –≥—А—Г–±–µ–µ, —Б–њ—Г—Б¬≠—В–Є–ї—Б—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є–ґ–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –і–∞–љ—Л –љ–µ–Ї–Є–µ –Ї—А—Л–ї—М—П, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —В–µ–Љ, –Ї–Њ–Є–Љ–Є –Я–ї–∞—В–Њ–љ... –љ–∞–і–µ–ї—П–µ—В –і—Г—И—Г –≤ ¬Ђ–§–µ–і—А–µ¬ї. –Ґ—А–µ—В–Є–є —Б—Л–љ –љ–Є–ґ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–∞–ї –≤ ¬Ђ–±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ¬≠–љ–Њ—Б—В—М¬ї, –Є–±–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –љ—Г–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Є–Є.
–≠—В–Њ —В—А–µ—В—М–µ ¬Ђ—Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ¬ї, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, вАФ —Б–∞–Љ–Њ–µ –≥—А—Г¬≠–±–Њ–µ –Є —В—П–ґ—С–ї–Њ–µ, –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ—З–Є—Б—В–Њ—В—Л. –Э–µ—В—А—Г–і–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤ —Н—В–Є—Е —В—А—С—Е —Н–Љ–∞–љ–∞—Ж–Є—П—Е –Є–ї–Є –Љ–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–∞—Ж–Є—П—Е –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞ —В—А–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є—О –і—Г—Е–∞, –і—Г—И–Є –Є —В–µ–ї–∞. –Ф—Г—Е –µ—Б—В—М –љ–µ—З—В–Њ —З–Є—Б—В–µ–є—И–µ–µ –Є –≤—Л—Б–Њ¬≠—З–∞–є—И–µ–µ; –і—Г—И–∞ –≤ —Б–≤–Њ—С–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ ligamentum Spiritus et corporis (—Б–≤—П–Ј–Ї–∞ –і—Г—Е–∞ –Є —В–µ–ї–∞ (–ї–∞—В.)) –≥—А—Г–±–µ–µ, —З–µ–Љ –і—Г—Е, –љ–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В ¬Ђ–Ї—А—Л–ї—М—П–Љ–Є –Њ—А–ї–∞¬ї, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –њ–Њ–і–љ—П—В—М —Б–≤–Њ–є –≤–µ—Б –Ї –≤—Л—Б—И–Є–Љ —Б—Д–µ—А–∞–Љ. –Ю–±–∞ –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ—О—В —В–Њ–љ–Ї—Г—О –њ—А–Є—А–Њ–і—Г –Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ —Н—Д–Є—А—Г –Є–ї–Є –Њ—А–ї—Г, –Њ–±–Є—В–∞—О—В –≤–±–ї–Є–Ј–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–≤–µ—В–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї —В–µ–ї–Њ, –±—Г–і—Г—З–Є —В—П–ґ—С–ї—Л–Љ, —В—С–Љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ—З–Є—Б—В—Л–Љ, –ї–Є—И–µ–љ–Њ —Б–≤–µ—В–∞, –љ–Њ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –≤ —Б–µ–±–µ –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–µ–Љ—П —В—А–µ—В—М¬≠–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–∞, вАФ —Е–Њ—В—П –Є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ¬≠–љ–Њ–µ. –≠—В–Њ —Б–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ, –Њ—З–Є—Й–µ–љ–Њ –Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ –Ї –≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О [30], –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–і–µ¬≠–ї–µ–љ—Л –≤ –Ш–Є—Б—Г—Б–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –°—В—А–∞—Б—В–µ–є (—В–Њ –µ—Б—В—М –µ–≥–Њ —З–µ—В–≤–µ—А¬≠—В–Њ–≤–∞–љ–Є—П) [31]. –Ш–Є—Б—Г—Б, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–Њ–Љ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–∞, –і—А–µ–Љ–ї—О—Й–µ–≥–Њ –≤–Њ —В—М–Љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –Ю–љ вАФ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї". –Ю–љ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–∞–Љ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –њ–Њ–ї–љ—Г—О —В—А–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є—О, –Є–±–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ, —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ь–∞—А–Є–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Њ –њ–ї–Њ—В–Є, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ґ–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В¬≠–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —Б—Л–љ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –∞—А—Е–Њ–љ–∞ —Б–µ–і–Љ–µ—А–Є—Ж—Л (¬Ђ–≥–µ–њ—В–∞–і—Л¬ї), –∞ –µ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —Б—Л–љ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –∞—А—Е–Њ–љ–∞ –≤–Њ—Б—М–Љ–µ—А–Є—Ж—Л (¬Ђ–Њ–≥–і–Њ–∞–і—Л¬ї), –і–µ–Љ–Є—Г—А–≥ –ѓ—Е–≤–µ. –≠—В–∞ —В—А–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є—П —Д–Є–≥—Г—А —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ вАФ –Р–љ—В—А–Њ-–њ–Њ—Б вАФ –≤ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В—А–µ–Љ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–∞–Љ –љ–µ-—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞ –Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –љ–∞ —В—А–Є —З–∞—Б—В–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–Љ–µ–µ–Љ —В—А–Є —В—А–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є–Є:
–Я–µ—А–≤–Њ–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –Т–Њ—Б—М–Љ–µ—А–Є—Ж—Л вАФ –Ф—Г—Е
–Т—В–Њ—А–Њ–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –°–µ–і–Љ–µ—А–Є—Ж—Л вАФ –Ф—Г—И–∞
–Ґ—А–µ—В—М–µ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–Њ вАФ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –°—Л–љ –Ь–∞—А–Є–Є вАФ –Ґ–µ–ї–Њ
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б—Д–µ—А–µ —В—С–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Є —В—П–ґ—С–ї–Њ–≥–Њ —В–µ–ї–∞ –љ–∞–і–Њ –Є—Б–Ї–∞—В—М amorfia, ¬Ђ–±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Ї—А—Л—В–Њ —В—А–µ—В—М–µ —Б—Л–љ–Њ–≤¬≠—Б—В–≤–Њ. –Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Є–Ј —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ, —Н—В–∞ –±–µ—Б—Д–Њ—А¬≠–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ–Њ—З—В–Є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ–∞ ¬Ђ–±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М¬≠–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Т—Б–µ —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ вАФ amorfia, agnwsia –Є anohton вАФ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –љ–∞ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ¬≠–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, —Г–і–∞—З–љ–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –Т–∞—Б–Є–ї–Є–і–Њ–Љ –Ї–∞–Ї ¬Ђouk on sperma toue kosmou polumorfon oemoue kai poluousion¬ї (¬Ђ–љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –Љ–љ–Њ¬≠–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Д–Њ—А–Љ –Є —Б–Њ–Ј–і–∞—О—Й–µ–µ –≤—Б–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ–Љ—П –Љ–Є—А–∞¬ї).
–Ґ–∞–Ї–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ–µ –≤ —З—С–Љ –∞–љ–∞¬≠–ї–Њ–≥–Є—З–љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г filius philosophorum (–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, ¬Ђ—Б—Л–љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤¬ї (–ї–∞—В.), –≤ –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Є вАФ ¬Ђ–≥–µ—А–Љ–∞—Д—А–Њ–і–Є—В, –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–є¬ї) –Є filius macrocosmi (—Б—Л–љ –Љ–∞–Ї—А–Њ–Ї–Њ—Б–Љ–∞ (–ї–∞—В.)), —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ –і—А–µ–Љ–ї—О—Й—Г—О –≤ –Љ–∞—В–µ—А–Є–Є –Љ–Є—А–Њ–≤—Г—О –і—Г—И—Г [32]. –Ф–∞–ґ–µ —Г –Т–∞—Б–Є–ї–Є–і–∞ —В–µ–ї–Њ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ¬≠—В–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Г—О, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ—Г—О –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –љ—С–Љ –Є –≤ –µ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ —В—А–µ—В—М —П–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –С–Њ–ґ–µ—Б¬≠—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –≠—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї —В–Њ, —З—В–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–є –њ–Њ —Б–µ–±–µ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –і–Њ–ї—П –љ—Г–Љ–Є–љ–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В–Є; —П —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О –Ј–і–µ—Б—М –њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–Љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В—С–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–µ–є –≤ –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Є –Є вАФ –і–∞–ї–µ–µ вАФ –≤ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї–∞—Е. –° –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В —В—А–µ—В—М–µ–Љ—Г —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤—Г –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–Њ–Љ ¬Ђ–њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ¬ї, –Є–±–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –≤ –љ–µ–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –°—В—А–∞—Б—В—П–Љ –Є —Б—В–∞–ї–Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ¬≠–љ—Л–Љ–Є, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В—А–µ—В—М–µ–Љ —Б—Л–љ–Њ–≤—Б—В–≤–µ –Њ–љ–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –±—Л–ї–Њ –±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Є —В–∞–Ї: –≤ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б–Ї—А—Л—В–Њ–µ –Ј–µ—А–љ–Њ, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ—Г –Ш–Є—Б—Г—Б–∞. –Ъ–∞–Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ш–Є—Б—Г—Б –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –ї–Є—И—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–µ—В—Г, –Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–Љ—Г –Њ—В –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є–≤—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –≤ –љ—С–Љ, —В–∞–Ї –Є —Б–µ–Љ—П –≤ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б¬≠—В–≤–∞ –њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —Б–≤–µ—В–∞, –Є–Ј–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Ш–Є—Б—Г—Б–Њ–Љ, –Є –њ–Њ–±—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Ї —Б—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б¬≠—В–µ–є. –Ґ–∞–Ї–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–љ–Њ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П—Е –і–∞–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ —Б–Њ–Ј¬≠–љ–∞–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –≤–Є–і—П—Й–µ–≥–Њ —Н—В–Є —Б–љ—Л [33].
–Ь–љ–µ –љ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –±—Л –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—В—М –≥–ї–∞–≤—Г –±–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–є, —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ–љ—П –≤—Л¬≠–љ—Г–ґ–і–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —В–Њ—З–Ї–∞ –Ј—А–µ–љ–Є—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —З—М–Є–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ—Б–Є—Е–µ, –њ–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ –Є –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–≤–µ—А–љ–Њ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –µ—Б–ї–Є —П, —А–Є—Б–Ї—Г—П –њ–Њ–≤—В–Њ¬≠—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—О—Б—М –Ї –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О –∞–Ј–Њ–≤, —П –і–µ–ї–∞—О —Н—В–Њ –ї–Є—И—М –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Г–њ—А–µ–і–Є—В—М –ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –Є –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М —З–Є—В–∞—В–µ–ї—П –Њ—В —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А¬≠–љ—Л—Е —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–µ–є.
–Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Г—О –Љ–љ–Њ–є –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М –Љ–µ–ґ–і—Г –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ –Є —Б–∞¬≠–Љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞–і–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О вАФ —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М —Б —А—Л–±–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Ю –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–Є –≤ —Б—Д–µ—А—Г –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤–µ—А—Л, –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ—В –Є —А–µ—З–Є. –Ю–±—А–∞–Ј—Л –С–Њ–≥–∞ –Є –•—А–Є—Б—В–∞, –њ—А–Њ–µ—Ж–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –љ–µ –±—Л—В—М –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–Љ–Є вАФ —З—В–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ-—В–Њ, –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—С—В¬≠—Б—П; –њ–Њ—Б–µ–Љ—Г, –Є—Е –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—П—Б–љ–Є—В—М –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –ї—О–±—Л–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞–Љ. –Ъ–∞–Ї –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ –≤–µ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —А—Л–±—Л —Б–Њ–Њ–±—Й–∞—О—В –Њ –•—А–Є—Б—В–µ –љ–µ—З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Ї–∞–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Є—Е –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М —Б –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –њ—А–Њ—П—Б–љ–µ–љ–Є—О –Є —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—О –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Њ–±—А–∞¬≠–Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –° —Е–Њ–і–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —А—Л–±—Л –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б—З–µ–Ј; –Є—Б—З–µ–Ј –Є lapis philosophorum (—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М (–ї–∞—В.)). –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–є, –њ–Њ-–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ—Г –≤—Л—Б–≤–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –µ–≥–Њ; –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–µ –≤ –љ–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П¬≠–і—Л –Є –Є–і–µ–Є –љ–∞–і–µ–ї—П—О—В –Ї–∞–Љ–µ–љ—М —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О, —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—И—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П: –љ–µ –±—Л–ї –ї–Є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≤–Ј—П—В –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–∞ –Ї–∞–Љ–љ—П, –∞ –љ–µ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –Ґ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ, –љ–µ –±–µ–Ј –Њ–њ–Њ—А—Л –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–µ –Є–і–µ–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–є –Ш–Њ–∞–љ–љ–∞ –Є –Я–∞–≤–ї–∞, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–µ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ —Б—Д–µ—А—Г –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞ –Є –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—Й–µ–µ –µ–≥–Њ –≤ —Д–Є–≥—Г—А—Г —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –≠—В–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О —Б–≤—П–Ј–∞—В—М —Б –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В¬≠–≤–∞–Љ–Є –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є¬≠–Љ–Њ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Є–Ї–Є, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А¬≠–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –≤ –µ–≥–Њ –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–∞—Е. –Ґ–∞–Ї, —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–µ—А–µ–і –ї–Є—Ж–Њ–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ —В–Њ—В, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–Њ—П–ї –њ–µ—А–µ–і –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Ї–∞–Љ–Є: —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–∞ –Є–ї–Є –•—А–Є—Б—В–Њ—Б вАФ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є?
–Ф–∞–љ–љ–∞—П –Љ–Њ—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –≤—В–Њ—А—Г—О –Є–Ј –∞–ї—М—В–µ—А¬≠–љ–∞—В–Є–≤. –ѓ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї—Б—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Ї–∞–Ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –•—А–Є—Б—В–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А—Г–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ вАФ –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–Њ–Є —Ж–µ–ї—М –Є –Љ–µ—В–Њ–і –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –љ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О—В –љ–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ, —З–µ–Љ —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, —Г—Б–Є–ї–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П, –≤–љ–µ—Б—И–Є–µ –≤–Ї–ї–∞–і –≤ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –•—А–Є—Б—В–∞. –Ґ–∞–Ї, –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ –Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤, —А–∞–≤–љ–Њ –Ї–∞–Ї –≤ —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —В–µ–Ї—Б—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ—Л—Е –µ–Љ—Г —П–≤–ї–µ–љ–Є–є –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—Д–µ—А —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є: –Њ–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –≤–µ–Ј–і–µ—Б—Г—Й–Є–є —Д–∞–Ї—В –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤—Б—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ –њ—А–Є–і–∞–≤–∞—В—М –±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –ґ–Є–≤–Њ–Љ—Г –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—О –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞, —З–µ–Љ –Є–і–µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ъ–∞–Ї —П —Г–ґ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Ї–Њ–≤ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–∞—Б—М —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М lapis –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –њ–µ—А–µ–і –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–∞–ї—С–Ї –Њ—В –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –Љ–Є—Б¬≠—Б–Є–Њ–љ–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤, —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —З—В–Њ –Є–Ј–ї–∞–≥–∞—О –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–µ –≤–µ—А—Л, –∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ —Д–∞–Ї—В—Л. –Х—Б–ї–Є –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї —А–µ–∞–ї—М–љ—Г—О –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —Б–Є–ї—Г –∞—А—Е–µ—В–Є–њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –•—А–Є—Б—В–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М –µ—С —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ, –µ–Љ—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –≤ –≤–Є–і—Г, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–≤–µ—А¬≠—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ю–±—А–∞–Ј –•—А–Є—Б—В–∞ –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ¬≠–≤–µ—А—И–µ–љ–µ–љ (–њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М —В–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ), –∞—А—Е–µ—В–Є–њ –ґ–µ (–љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ) –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ¬≠–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –і–∞–ї–µ–Ї –Њ—В —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –љ–µ–Њ–њ–Є—Б—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–љ–Њ–≥–Њ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–ї–µ–і—Г—О¬≠—Й–∞—П –Є–Ј –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є—П –µ—С –≤–µ—А—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –≤–µ–і—С—В –Ї —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ¬≠—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Г, –Ї –і–Њ–њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–≤–µ—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є (–љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–є –Њ —А–∞—Б–њ—П—В–Њ–Љ –•—А–Є—Б—В–µ, –њ–Њ–і–≤–µ—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П —А–∞–Ј¬≠–±–Њ–є–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є) –Є –Ї —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Є—И—С–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞. –°—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї ¬Ђ—В–µ–ї–µ–є–Њ—Б–Є—Б—Г¬ї (–Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М (–≥—А–µ—З.)) –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–∞ вАФ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ–µ, –љ–Њ –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≤—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–Њ—Й¬≠–љ–µ–є—И–Є—Е –Ї–Њ—А–љ–µ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –≠—В–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й—Г—О —Б—В—А–∞—Б—В—М, —Б—В–∞–≤—П¬≠—Й—Г—О –≤—Б—С —Б–µ–±–µ –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г. –Э–Њ, —Б–Ї–Њ–ї—М –±—Л –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞, –∞—А—Е–µ—В–Є–њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В —Б–µ–±—П –≤ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ —Н—В–Њ вАФ teleiosi –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞. –Х—Б–ї–Є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В¬≠–≤–Њ–≤–∞—В—М, –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є –≤—Б–µ–Љ –љ–∞—И–Є–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П–Љ, –љ–Њ –≤ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Є —Б –∞—А—Е–∞–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞. –Ш–љ–і–Є–≤–Є–і –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—М—Б—П –Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤—Г (¬Ђ–Ш—В–∞–Ї –±—Г–і—М—В–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л вАФ teleioi вАФ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–µ–љ –Ю—В–µ—Ж –≤–∞—И –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–є¬ї), –љ–Њ –±—Г–і–µ—В –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ —Б—В—А–∞–і–∞—В—М –Њ—В —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ, –≤–Њ –Є–Љ—П –µ–≥–Њ –і–Њ–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞–њ–µ—А–µ–Ї–Њ—А –µ–≥–Њ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П–Љ. ¬Ђ–Ш—В–∞–Ї —П –љ–∞—Е–Њ–ґ—Г –Ј–∞–Ї–Њ–љ, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Е–Њ—З—Г –і–µ–ї–∞—В—М –і–Њ–±—А–Њ–µ, –њ—А–Є–ї–µ–ґ–Є—В –Љ–љ–µ –Ј–ї–Њ–µ¬ї.
–Ю–±—А–∞–Ј –•—А–Є—Б—В–∞ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В —Н—В–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є: –•—А–Є—Б—В–Њ—Б вАФ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—И–Є–є—Б—П —А–∞—Б–њ—П—В–Є—О. –Т—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї–Є —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–∞—П –Є–і–µ—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–∞—П –≤ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–Њ–є, –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞—В—М—Б—П —Б —Н—В–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Є–±–Њ –Њ–љ–∞, —Е–Њ—В—П –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ, –ї–Є—И–µ–љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ –Њ—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Є–і–µ—П–Љ –∞—В–Љ–∞–љ–∞ [34] –Є –і–∞–Њ, —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б—П—Й–Є–Љ—Б—П —Б –љ–µ—О, –Є–і–µ—П —Б–∞¬≠–Љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Њ—В—З–∞—Б—В–Є, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ –љ–∞ –≤–µ—А–µ, –Є –љ–µ –љ–∞ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є¬≠—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—Ж–Є—П—Е, –∞ –љ–∞ —В–Њ–Љ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–µ, —З—В–Њ –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю—В—Б—О–і–∞ –Љ—Л –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ—В–Є–њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ –Є –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –љ—Г–Љ–Є–љ–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М—О. –Ш –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞—В—М —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –ї—О–±–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Є–і–µ¬≠—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —В–∞–Ї –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Н—В–Њ. –Я–Њ—П–≤–ї—П—О—Й–Є–µ—Б—П –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б¬≠—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–≥–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є—П —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї, –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В, —З—В–Њ –Њ–љ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –≤ —Ж–µ–љ—В—А –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є –љ–∞–і–µ–ї—П¬≠–µ—В—Б—П –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б–Є–ї—Г —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤ –љ–µ–Љ. –Х—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є—В –ї–Є—И—М –Ї–∞–Ї –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б, –Є–±–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–Љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А¬≠–љ–∞ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е —В—А–∞—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –ї–Є—И—М –Њ–љ–∞ –Њ–і–љ–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–∞ –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ–Њ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М –Є—Е –њ—А–Є—А–Њ–і—Г, –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞—О—Й—Г—О—Б—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О.
–Т–Њ –≤—Б–µ—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ–Є–Ј¬≠–±–µ–ґ–љ—Л–Љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ—Б¬≠—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞, –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ¬≠—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–µ –†–∞—Б–њ—П—В–Є—П вАФ —Н—В–Њ–є –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–Њ—Б—В—А—С–љ–љ–Њ –Њ—Й—Г—Й–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–Є—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–љ–µ—Ж –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –ї–Є—И—М —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є ¬Ђconsummatum est¬ї (–Њ–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–Њ, –і–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Њ (–ї–∞—В.)). –£–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є–µ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –Є–і—С—В –≤ –Њ–±—Е–Њ–і —В–∞–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞; —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–љ–Њ –≤ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є¬≠—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е ¬Ђ–Є—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї–Њ –±—Л –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–љ–∞¬≠—З–µ–љ–Є—П. ¬Ђ–Ш—Б–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ¬ї –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б –њ–ї–µ—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≥—А—Г–Ј, –Ї–Њ–µ–≥–Њ –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –Є –љ–µ —Б–Њ–±–Є—А–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–µ–±—П –≤–Ј–≤–∞–ї–Є–≤–∞—В—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ–Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ—Л–є¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–љ–∞–µ—В, –љ–∞¬≠—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ –љ–µ–њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–Љ –і–ї—П —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–±—П. –Э–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —П –Љ–Њ–≥—Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ, —Б —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–µ–ї—М–Ј—П –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ї—В–Њ-–ї–Є–±–Њ –њ—А–Є–љ—П–ї –і–ї—П —Б–µ–±—П –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ¬≠–Љ—Г—О –љ–∞–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є –Ј–∞–і–∞—З—Г –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є –Є –Њ—В–љ–µ—Б—Б—П –Ї –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –љ–∞—И–µ–є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –Ї –ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г. –Х—Б–ї–Є –Њ–љ –њ–Њ–і–Њ–є–і–µ—В –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ј–љ–∞¬≠—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –Є–љ—В–µ–љ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ, —В–Њ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –љ–µ–њ—А–Є—П—В¬≠–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞—Ж–Є–Є. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В –±—А–µ–Љ—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ¬≠–љ–Њ–є –Ј–∞–≤–µ—А—И—С–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –µ–Љ—Г –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –і–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ¬ї —Б –љ–Є–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –µ–≥–Њ –≤–Њ–ї–Є –Є –≤ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ. –Х—Б–ї–Є —Г–ґ –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ —Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М—Б—П –≤ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О —П–Љ—Г, –ї—Г—З—И–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ —Б–Њ –≤—Б–µ–Љ–Є –љ–µ–Њ–±¬≠—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –∞ –љ–µ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞—В—М —Б–µ–±—П —А–Є—Б–Ї—Г —Б–≤–∞–ї–Є—В—М—Б—П –≤ –љ–µ—С —Б–њ–Є–љ–Њ–є.
–Э–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Е—А–Є—Б¬≠—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–Њ–њ—А—П–ґ–µ–љ–∞ —Б –Є—Е –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞–Ї—Ж–µ–љ—В—Г¬≠–∞—Ж–Є–µ–є. –Э–∞–Љ —Н—В–∞ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В—Г–∞—Ж–Є—П –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –Њ–і–љ–∞¬≠–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ –љ–µ—С —Б –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ–Љ –Т–µ—В—Е–Њ–≥–Њ –Ч–∞–≤–µ—В–∞, —Б –µ–≥–Њ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–Љ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—В–µ –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞. –Т–ї–Є—П–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –љ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ, –≤ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ї–Є–≥–Є—П—Е –Ш–љ–і–Є–Є –Є –Ъ–Є—В–∞—П. –Э–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П—Б—М –Њ—В –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В¬≠—Б—В–≤—Г–µ—В –ї–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ —Н—В–Њ –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ¬≠–љ–Њ—Б—В–µ–є –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ—Г —Г—А–Њ–≤–љ—О –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—Г—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –Є —Ж–µ–љ–Њ–є —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П —Б—В—А–∞–і–∞–љ–Є–є, —П –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Е–Њ—З—Г –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В—М –љ–∞–і–µ–ґ–і—Г –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ—П—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –≤ –Љ–Є—А–µ –±—Г–і–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–µ—В–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—И–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б¬≠–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П, –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ —А–∞–љ–µ–µ, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ—В–Њ –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –≥–ї–∞—Б–Є—В, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—С—В—Б—П, –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Б—Г–і—М–±–µ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М, –µ—Б–ї–Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –љ–µ–і–µ–ї–Є–Љ—Л–Љ, –љ–Њ –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—С—В —Б–≤–Њ—О —Б–Њ–±—Б—В¬≠–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, —В–∞—П—Й—Г—О—Б—П –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–µ–≥–Њ, –Љ–Є—А –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Г–і–µ—В —А–∞–Ј—Л–≥—А–∞—В—М —Н—В–Њ—В –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В –Є —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ—В—М—Б—П –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г.
–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г–є—В–µ—Б—М —З—В–Њ–±—Л —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б—Б—Л–ї–Ї—Г
–Ь–Ю–Щ –Ъ–Р–С–Ш–Э–Х–Ґ viewforum.php?f=1313
- –°–Ш–Ы–ђ–§
- –Ф–Ш–Р–У–Э–Ю–°–Ґ
-

- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є: 965
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: 19 –Љ–∞—А 2018, 13:53
–•—А–Є—Б—В–Њ—Б, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є
–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П:
1) –Ш–Њ–∞–љ., 4:3. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –Ј—А–µ–љ–Є—П –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –§–µ—Б—Б–∞–ї. 2:3 —Б–ї., –≥–і–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ–± –Њ—В—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ, –Њ–± ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ¬ї –Є ¬Ђ—Б—Л–љ–µ –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї–Є¬ї, –≤–Њ–Ј–≤–µ—Й–∞—О—Й–µ–Љ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞. –≠—В–Њ—В ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є—П" —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В—Б—П, –≤—Л–і–∞–≤–∞—П —Б–µ–±—П –Ј–∞ –С–Њ–≥–∞, –љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Ш–Є—Б—Г—Б —Г–±—М—С—В –µ–≥–Њ ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–Љ —Г—Б—В –°–≤–Њ–Є—Е¬ї. –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В –±—Г–і–µ—В –≤–µ—А—И–Є—В—М —З—Г–і–µ—Б–∞ ¬Ђ–њ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—О —Б–∞—В–∞–љ—Л¬ї. –†–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–Є—В –ґ–µ –Њ–љ —Б–µ–±—П, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–≤–Њ–µ—О –ї–Њ–ґ—М—О –Є –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–Њ–є. –Я—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–Њ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Ф–∞–љ., 11:36 —Б–ї.
2) —Б–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П¬ї
3) –Ы—Г–Ї–∞, 17:20. ¬Ђ–¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –С–Њ–ґ—М–µ –≤–љ—Г—В—А–Є –≤–∞—Б¬ї (–Є–ї–Є ¬Ђ—Б—А–µ–і–Є –≤–∞—Б¬ї). –Э–µ –њ—А–Є–і—С—В –¶–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ –њ—А–Є–Љ–µ—В–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ш –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г—В ¬Ђ–≤–Њ—В –Њ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ–≤–Њ—В, —В–∞–Љ¬ї. –Ш–±–Њ –Њ–љ–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–∞—Б –Є –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г¬ї. ¬Ђ–¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ь–Њ—С –љ–µ –Њ—В –Љ–Є—А–∞ —Б–µ–≥–Њ (–≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ). (–Ш–Њ–∞–љ–љ, 18:36). –Я–Њ–і–Њ–±–Є–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є—В—З–µ–є –Њ —Б–µ—П—В–µ–ї–µ (–Ь–∞—В—Д., 13:24, —В–∞–Ї–ґ–µ –Ь–∞—В—Д. 13:45; 18:23; 22:2). –Я–∞–њ–Є—А—Г—Б–љ—Л–є –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –Ю–Ї—Б–Є—А–Є–љ—Е–∞ –≥–ї–∞—Б–Є—В: ¬ЂвА¶–¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ вАФ –≤–љ—Г—В—А–Є –≤–∞—Б, –Є –Ї—В–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–µ—В —Б–µ–±—П, —В–Њ—В –љ–∞–є–і–µ—В –µ–≥–Њ. –Я–Њ–Ј–љ–∞–є—В–µ —Б–µ–±—П¬ї.
4) –°–Љ. –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Ї–∞–Ї –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–µ –≤ ¬Ђ–Я–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ–≥–Љ–∞—В–∞ –Њ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ¬ї
5) ¬ЂIn anima, non in corpore impressus sit imaginis conditoris character¬ї (¬Ђ–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ –≤ –і—Г—И–µ, –љ–µ –≤ —В–µ–ї–µ¬ї)
6) In Lucam homilia, VIII (Migne, P.O., vol.13, col.1820): ¬ЂSi considerem Dominum Salvatorem imaginem esse invisibilis Dei, et videam animam meam factam ad imaginem conditoris, ut imago esset imaginis: neque enim anima mea speciliter imago est Dei, sed ad similitudinem imaginis prioris est¬ї (¬Ђ–Х—Б–ї–Є —П —Г—З—В—Г, —З—В–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞, —В–Њ —Г–≤–Є–ґ—Г, —З—В–Њ –і—Г—И–∞ –Љ–Њ—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г –Є –њ–Њ–і–Њ–±–Є—О –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П, –µ—Б—В—М –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–±—А–∞–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–∞; –Є–±–Њ –Љ–Њ—П –і—Г—И–∞ вАФ –љ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞, –љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї)
7) De principiis, I, 8 (Migne, P.O., vol.11, col.156): ¬ЂSalvator figura est substantiae vel subsistentiae Dei¬ї (¬Ђ–°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М –µ—Б—В—М —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ¬ї). In Genesim homilia, I (Migne, P.O., vol.12, col.156): ¬ЂQuae est ergo alia imago Dei ad cuius imaginis similitudinem factus est homo, nisi Salvator noster, qui est primogenitus omnis creaturae¬ї (¬Ђ–Ш—В–∞–Ї, —З—В–Њ –ґ–µ –µ—Й—С –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є, –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г –Є –њ–Њ–і–Њ–±–Є—О –Ї–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –љ–∞—И –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М, –њ–µ—А–≤–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є —Б—А–µ–і–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ–Њ–≥–Њ?¬ї)
8) (Migne, P.L. vol.332 col.626): ¬Ђ(Unigeni-tus)... tantummodo imago est, non ad imaginem¬ї (¬Ђ–Х–і–Є–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є... –Њ–і–Є–љ –ї–Є—И—М –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј, –∞ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г¬ї)
9) In Joannis Evangelium, Tract.LXXVIII, 3 (Migne, P.O., vol.36, col.629): ¬ЂChristus est Deus, anima rationalis et —Б–∞–≥–Њ¬ї (¬Ђ–•—А–Є—Б—В–Њ—Б –µ—Б—В—М –С–Њ–≥, —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–∞—П –і—Г—И–∞ –Є —В–µ–ї–Њ¬ї).
10) Contra Faustum, XXII, 38 (Migne, P.L. vol.42, col.424): ¬ЂEst enim et sancta Ecclesia Domino Jesu Christo in occulto uxor. Occulte quippe alque intus in absondito secreto spirituali anima humana inhaeret Verbo Dei, ut sint duo in came una¬ї. ¬Ђ–Ю—В–≤–µ—В –§–∞–≤—Б—В—Г –Ь–∞–љ–Є—Е–µ—О¬ї –°–≤. –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞: ¬Ђ–°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —В–∞–Ї–ґ–µ –µ—Б—В—М —В–∞–є–љ–∞—П —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ш–±–Њ –≤—В–∞–є–љ–µ, –≤ —Б–Ї—А—Л—В—Л—Е –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞—Е –і—Г—Е–∞, –і—Г—И–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В—Б—П —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б—Г—В—М –і–≤–∞ –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—В–Є¬ї. –°–≤. –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ –Ј–і–µ—Б—М –Њ–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≠—Д–µ—Б. 5:31 : ¬Ђ–Я–Њ—Б–µ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—В—Ж–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є –Љ–∞—В—М –Є –њ—А–Є–ї–µ–њ–Є—В—Б—П –Ї –ґ–µ–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є, –Є –±—Г–і—Г—В –і–≤–Њ–µ –Њ–і–љ–∞ –њ–ї–Њ—В—М¬ї.
11) Augustine, De Trinitate, XIV, 22 (Migne, P.O. vol.42, col.1053): ¬ЂReformamini in novitate mentis vostrae, ut incipiat ilia imago ab illo reformari, a quo formata est¬ї (¬Ђ–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–є—В–µ—Б—М –≤ –љ–Њ–≤–Є–Ј–љ–µ —Г–Љ–∞ –≤–∞—И–µ–≥–Њ, –і–∞–±—Л –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ¬ї)
12) –°–Љ. ¬ЂConcerning Mandala Symbolism¬ї, Part I, vol.9
13) –°–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П¬ї, ¬І. 323
14) –Ш—А–Є–љ–µ–є (Adversus haereses, II, 5) –њ–µ—А–µ–і–∞—С—В –≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ы–Њ–≥–Њ—Б–∞-–і–µ–Љ–Є—Г—А–≥–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –±—Л—В–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Њ–љ ¬Ђ–Є–Ј–≤—С—А–≥ –µ—С –Є–Ј –Я–ї–µ—А–Њ–Љ—Л вАФ —В–Њ –µ—Б—В—М, –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї –µ—С –Њ—В –Ј–љ–∞–љ–Є—П¬ї. –Ш–±–Њ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤–љ–µ –њ–ї–µ—А–Њ–Љ—Л, –≤ —В–µ–љ–Є –Є –≤ –њ—Г—Б—В–Њ—В–µ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ—Г, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–µ –Њ—В –≠–Њ–љ–Њ–≤ –њ–ї–µ—А–Њ–Љ—Л, –љ–Њ –Њ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤–љ–µ –Є—Е. –Ю–љ–∞, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, —А–Њ–і–Є–ї–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ ¬Ђ–љ–µ –±–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —В–µ–љ–Є¬ї. –Э–Њ —В–Њ—В, ¬Ђ–±—Г–і—Г—З–Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–Њ–є¬ї, –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї —В–µ–љ—М –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Я–ї–µ—А–Њ–Љ—Г, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–∞—В—М, ¬Ђ–±—Г–і—Г—З–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —В–µ–љ–Є –Є –ї–Є—И—С–љ–љ–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є¬ї, —А–Њ–і–Є–ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ф–µ–Љ–Є—Г—А–≥–∞ –Є –Я–∞–љ—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ—А–∞ –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞¬ї. –Э–Њ —В–µ–љ—М, –ї–µ–ґ–∞—Й–∞—П –љ–∞–і –Љ–Є—А–Њ–Љ вАФ —Н—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –Є–Ј –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–є, princeps huius mundi, —В–Њ –µ—Б—В—М –і—М—П–≤–Њ–ї
15) –°–Љ. R.Scharf, ¬ЂDie Gestalt des Satans im Alten Testament¬ї
16) –°–Љ. ¬Ђ–Ф—Г—Е –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–є¬ї, ¬І. 271
17) –Ш—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–µ –≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Њ-—Б–Є–љ–Ї—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–∞—А—В–Є—О
18) –У–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–µ–Ї—В–∞, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ–∞—П –≤ Panarium adversus octoginta haereses –Є –≤ Michael Psellus, ¬Ђde Daemonibus du Pseudo-Psellos¬ї (Marsilius Ficinus, Auctores Platonici (Lamblichus de mysteriis Aegyptiorum), Venice, 1497)
19) –Ю—А–Є–≥–µ–љ, Contra Celsum , VI, 45: ¬ЂOpportuit autem ut alter illorum extremorum isque optimus appellaretur Dei filius propter suam excellentiam ; alter vero ipsi ex diametro oppositus , mali daemonis , Satanae diabolique filius diceretur¬ї (¬Ђ–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–µ–є, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–∞—П, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –°—Л–љ–Њ–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –Ј–∞ —Б–≤–Њ—С –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ, –∞ –≤—В–Њ—А–∞—П вАФ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–∞—П вАФ —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ј–ї–Њ–≥–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ–∞, –°–∞—В–∞–љ—Л –Є –і–Є–∞–≤–Њ–ї–∞¬ї). –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–ґ–µ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–Є–≤–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞: ¬ЂUbi quid malum est... ibi necessario bonum esse malo contrarium ... Alterum ex altero sequitur: proinde aut utrumque tollendum est negandumque bona et mala esse; aut admisso altero maximeque malo, bonum quoque admissum oportet¬ї. (¬Ђ–У–і–µ –µ—Б—В—М –љ–µ–Ї–Њ–µ –Ј–ї–Њ... —В–∞–Љ –њ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –Є –і–Њ–±—А–Њ, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Ј–ї—Г... –Ю–і–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ; –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Є–ї–Є –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М –Є —В–Њ, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –і–Њ–±—А–∞, —В–∞–Ї –Є –Ј–ї–∞, вАФ –Є–ї–Є –ґ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–ї–∞, –Љ—Л —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞¬ї. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–Љ—Г —З—С—В–Ї–Њ–Љ—Г –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Ю—А–Є–≥–µ–љ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М –±–µ–Ј –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–°–Є–ї—Л, –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—Л –Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї –Є –і–∞–ї–µ–µ –≤–љ–Є–Ј, –і–Њ –Ј–ї—Л—Е –і—Г—Е–Њ–≤ –Є –љ–µ—З–Є—Б—В—Л—Е –і–µ–Љ–Њ–љ–Њ–≤, –≤—Б–µ ¬Ђ–љ–µ –Є–Љ–µ—О—В —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –≤ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ¬ї –Є —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –і—Г—А–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –≤—Л–±—А–∞–ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ј–ї–∞ no —Б–≤–Њ–µ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–µ (De principiis, VIII, 4; Migne, P.O. vol.11, col.179). –Ю—А–Є–≥–µ–љ —Г–ґ–µ, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–∞ –Ї–∞–Ї Summum Bonum (¬Ђ–Т—Л—Б—И–µ–µ –С–ї–∞–≥–Њ" (–ї–∞—В.)) –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –ї–Є—И–∞—В—М –Ј–ї–Њ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ю–љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є privatio boni, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В ¬ЂCertum namque est malum esse bono carere¬ї (¬Ђ–Ш–±–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –±—Л—В—М –Ј–ї—Л–Љ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –±—Л—В—М –ї–Є—И—С–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–±—А–∞¬ї). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б–µ–љ—В–µ–љ—Ж–Є–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П ¬ЂRecedere autem a bomo, non aliud est quam effici in malo¬ї (¬Ђ–Ю—В–Њ–є—В–Є –Њ—В –і–Њ–±—А–∞ –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤–Њ –Ј–ї–µ¬ї). –≠—В–Њ —П—Б–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–Є—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—О—Б–∞ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є.
20) –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–Є—А—Б–Ї–∞—П —В—М–Љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Є–Ј-–Ј–∞ —В–µ–љ–Є, –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ.
21) –Т –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –І–µ—В–≤—С—А—В–Њ–≥–Њ –Ы–∞—В–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —З–Є—В–∞–µ–Љ: ¬Ђ–Ш–±–Њ –і—М—П–≤–Њ–ї –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ –і–µ–Љ–Њ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л –С–Њ–≥–Њ–Љ –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є –Ј–ї—Л–Љ–Є –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О¬ї
22) –Ц–µ–љ—Б–Ї–∞—П, –Є–ї–Є —Б–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, —В—А–Є–∞–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Є–Ј e p i q o u m i a (–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ), o r g h (–≥–љ–µ–≤) –Є l u p h (–њ–µ—З–∞–ї—М); –Љ—Г–ґ—Б–Ї–∞—П вАФ –Є–Ј l o g i s m o V (—А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ), g n w s i V (–Ј–љ–∞–љ–Є–µ) –Є f o b o V (—Б—В—А–∞—Е). –°–Љ. —В—А–Є–∞–і—Г —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –≤ ¬Ђ–§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –і—Г—Е–∞ –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞—Е¬ї, ¬І. 425
23) –Э–∞–Љ—С–Ї –љ–∞ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Ж–µ–≤ –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ
24) ¬ЂAkathriel¬ї вАФ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј ktr = keiner (¬Ђ—В—А–Њ–љ¬ї) –Є el вАФ –Є–Љ–µ–љ–Є –С–Њ–≥–∞
25) –Ь–Њ–є —Г—З—С–љ—Л–є –і—А—Г–≥ Victor White –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е Dominican Studies –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞—И—С–ї —Г –Љ–µ–љ—П —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б—В–≤—Г. –ѓ –љ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Б—М –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –µ—О; –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –Љ–љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М: —З—В–Њ –љ–∞–Љ –і–µ–ї–∞—В—М —Б –∞–і–Њ–Љ, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –і—М—П–≤–Њ–ї–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –≤–µ—З–љ—Л? –Ґ–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–љ–Є вАФ –љ–Є—З—В–Њ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Њ–Љ –Њ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є? –Х—Б–ї–Є –ґ–µ –Њ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є–Ј —З–µ–≥–Њ-—В–Њ, —Н—В–Њ –љ–µ—З—В–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Њ–±—А–Њ–Љ. –У–і–µ –ґ–µ –Ј–і–µ—Б—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞? –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –Љ–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л –Ј–љ–∞—В—М, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М—О —П –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—О –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є вАФ —Н—В–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞, –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ–є complexio oppositorum, вАФ (¬Ђ–њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї, (–ї–∞—В.)) –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А—П–Љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г.
26) –Т—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –ґ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –µ—С –Є–ї–ї—О–Ј–Њ—А–љ—Л–Љ —Б—Г–±—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–Љ. –ѓ –Љ–Њ–≥—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—Б—П —Б —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –Ј—А–µ–љ–Є—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М –µ—С –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Є—В–Є—Ж–Є–Ј–Љ, –љ–Њ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –µ—С –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–є —Б—Г–і–Є—В—М –Њ –і–Њ–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М; –Ї–∞–Ї –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ, –Њ–љ –±—Л–ї —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О. –≠—В–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–∞, –Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ вАФ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ вАФ –Ј–ї–Њ –±—Л–ї–Њ privatio boni. –Т –ї—О–±–Њ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Ж–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З—В–Њ –Є —Б–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ъ—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—И–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є? –Ю–і–љ–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –µ—С —Б–∞–Љ–Њ–є.
27) –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —Б–≤–µ—В–∞ –њ–Њ–і–і–∞–µ—В—Б—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –Є –≤–Њ–ї–љ, –Є —З–∞—Б—В–Є—Ж.
28) –°–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П¬ї ¬І. 323 –Є ¬Ђ–Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –ѓ –Є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ¬ї, ¬І. 398
29) –°–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П " ¬І. 334 –Є ¬ЂPsychology of the Transference¬ї, ¬І. 457
30) –≠—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–µ –Њ –Ї—А–∞—В–µ—А–µ —Г –Ч–Њ—Б–Є–Љ—Л вАФ ¬Ђ–≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Ї —А–Њ–і—Г —В–≤–Њ–µ–Љ—Г¬ї.
31) –Ч–і–µ—Б—М —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Њ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–µ horos y –≤–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Є–∞–љ, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Ш—А–Є–љ–µ–µ–Љ. Horos (¬Ђ–≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞¬ї) –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є ¬Ђ—Б–Є–ї—Г¬ї –Є–ї–Є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ–µ –•—А–Є—Б—В—Г –Є–ї–Є –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –µ—Б—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ—Л: o e r o q e t h V (¬Ђ—Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М –≥—А–∞–љ–Є—Ж¬ї), m e t a g o g e u (¬Ђ–њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—П—Й–Є–є —З–µ—А–µ–Ј –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л¬ї), k a r p i s i h (¬Ђ–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М¬ї), l u t r w t h (¬Ђ–≤–Њ–Ј–і–∞—О—Й–Є–є¬ї), s t u r o V (¬Ђ–Ї—А–µ—Б—В¬ї). –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ—С–Љ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ –Њ–љ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –•—А–Є—Б—В—Г, вАФ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Њ–њ–Њ—А–∞ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, —В–Њ, —З—В–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г–µ—В –µ—С. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –°–Њ—Д–Є—П –±—Л–ї–∞ ¬Ђ–±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞—А–Њ–і—Л—И–µ–Љ, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї –µ—С, —А–∞—Б—В—П–љ—Г–ї –µ—С —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–Љ –Є –і–∞–ї –µ–є —Д–Њ—А–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є¬ї, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–±—А–µ–ї–∞ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О. –Ю–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–є ¬Ђ–љ–∞–Љ—С–Ї –љ–∞ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ¬ї. –Ш–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Ъ—А–µ—Б—В–∞ —Б Horos, –Є–ї–Є —Б –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ. –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —В–µ–Ї—Б—В–∞; –і–∞–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г –Я–∞—Г–ї–Є–љ–∞ –Є–Ј –Э–Њ–ї—Л: ¬Ђ...regnare deum super omnia Christum, qui cruce dispensa per quattuor extima ligni quattuor adtingit dimensum partibus orbem, ut trahat ad uitam populos ex omnibus oris¬ї. (¬Ђ–Т—Б–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В –±–Њ–≥ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В–∞ —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –і—А–µ–≤–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В —З–µ—В—Л—А—С—Е —З–∞—Б—В–µ–є —Б–≤–µ—В–∞, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—П –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—А–Њ–і—Л –≤—Б–µ—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –≤ –Љ–Є—А–µ¬ї.)
32) –Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј—А–µ—З–µ–љ–Є–є —Б–Љ.: Quispel's ¬ЂPhilo und die altchristliche H√§resie¬ї, –≥–і–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —В–∞–Ї–∞—П —Ж–Є—В–∞—В–∞ –Є–Ј –Ш—А–Є–љ–µ—П: ¬ЂId quod extra et quod intus dicere eos secundum agritionem et ignorantiam, sed non secundum localem sententiam¬ї (¬Ђ–Ю –≤–љ–µ—И–љ–µ–Љ –Є –Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ –Њ–љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –љ–µ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –∞ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ–Ј–љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ¬ї). –Э–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ —Б–µ–љ—В–µ–љ—Ж–Є—О вАФ ¬Ђ–Э–Њ –≤ –Я–ї–µ—А–Њ–Љ–µ, –Є–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –Ю—В—Ж–Њ–Љ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤—Б—С —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ –і–µ–Љ–Є—Г—А–≥–Њ–Љ –Є–ї–Є –∞–љ–≥–µ–ї–∞–Љ–Є, –≤–Љ–µ—Й–∞–µ–Љ–Њ–µ –љ–µ–≤—Л—А–∞–Ј–Є–Љ—Л–Љ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Ж–µ–љ—В—А –≤ –Ї—А—Г–≥–µ¬ї, вАФ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ. –Т–Ј–≥–ї—П–і—Л –Ъ–≤–Є—Б–њ–µ–ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є—О –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В —В–Њ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є—П –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Є–Ї–Є, –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Д–∞–Ї—В ¬Ђ–љ–µ—А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ¬ї –ї–Є—И—М –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є¬ї. –Я—Б–Є—Е–µ –µ—Б—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О.
33) –°–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П¬ї ¬І. 52 –Є ¬ЂA Study in the Process of Individuation¬ї, ¬І. 542, 550, 581
34) а§Ж১а•Нু৮а•Н (—Б–∞–љ—Б–Ї—А.) вАФ ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М¬ї, ¬Ђ–і—Г—Е¬ї, ¬Ђ–≤—Л—Б—И–µ–µ –ѓ¬ї вАФ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є–є –Є–љ–і—Г–Є–Ј–Љ–∞: –≤–µ—З–љ–∞—П, –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–∞—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—О—Й–Є–є —Б–≤–Њ—С —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –і–ї—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ ¬Ђ–ѓ¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –≤—Б–µ—Е –ґ–Є–≤—Л—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ–њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–љ–∞–µ—В —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Р—В–Љ–∞¬ї вАФ ¬Ђ—П –љ–µ —Н—В–Њ, —П –Ґ–Ю¬ї, ¬Ђ—П –µ—Б—В—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В, –Є —П —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—О¬ї вАФ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В (—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї) –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—С—В —Б–≤–Њ—С —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞, ¬Ђ–∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П¬ї, –Р—В–Љ–∞–љ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–Љ, ¬Ђ–∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–Љ –±—Л—В–Є–µ–Љ¬ї вАФ –С—А–∞—Е–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї—П—П—Б—М —Б –љ–Є–Љ.
–Р–љ–љ–∞ –°—В–∞—А–Њ–і–≤–Њ—А—Ж–µ–≤–∞
1) –Ш–Њ–∞–љ., 4:3. –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –Ј—А–µ–љ–Є—П –¶–µ—А–Ї–≤–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ –§–µ—Б—Б–∞–ї. 2:3 —Б–ї., –≥–і–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ–± –Њ—В—Б—В—Г–њ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ, –Њ–± ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–µ –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–љ–Њ–Љ¬ї –Є ¬Ђ—Б—Л–љ–µ –њ–Њ–≥–Є–±–µ–ї–Є¬ї, –≤–Њ–Ј–≤–µ—Й–∞—О—Й–µ–Љ –њ—А–Є—И–µ—Б—В–≤–Є–µ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞. –≠—В–Њ—В ¬Ђ—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±–µ–Ј–Ј–∞–Ї–Њ–љ–Є—П" —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В—Б—П, –≤—Л–і–∞–≤–∞—П —Б–µ–±—П –Ј–∞ –С–Њ–≥–∞, –љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Ш–Є—Б—Г—Б —Г–±—М—С—В –µ–≥–Њ ¬Ђ–і—Г—Е–Њ–Љ —Г—Б—В –°–≤–Њ–Є—Е¬ї. –Р–љ—В–Є—Е—А–Є—Б—В –±—Г–і–µ—В –≤–µ—А—И–Є—В—М —З—Г–і–µ—Б–∞ ¬Ђ–њ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—О —Б–∞—В–∞–љ—Л¬ї. –†–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–Є—В –ґ–µ –Њ–љ —Б–µ–±—П, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–≤–Њ–µ—О –ї–Њ–ґ—М—О –Є –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–Њ–є. –Я—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ–Њ–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Ф–∞–љ., 11:36 —Б–ї.
2) —Б–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П¬ї
3) –Ы—Г–Ї–∞, 17:20. ¬Ђ–¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –С–Њ–ґ—М–µ –≤–љ—Г—В—А–Є –≤–∞—Б¬ї (–Є–ї–Є ¬Ђ—Б—А–µ–і–Є –≤–∞—Б¬ї). –Э–µ –њ—А–Є–і—С—В –¶–∞—А—Б—В–≤–Є–µ –С–Њ–ґ–Є–µ –њ—А–Є–Љ–µ—В–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ш –љ–µ —Б–Ї–∞–ґ—Г—В ¬Ђ–≤–Њ—В –Њ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ–≤–Њ—В, —В–∞–Љ¬ї. –Ш–±–Њ –Њ–љ–Њ –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–∞—Б –Є –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г¬ї. ¬Ђ–¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ь–Њ—С –љ–µ –Њ—В –Љ–Є—А–∞ —Б–µ–≥–Њ (–≤–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ). (–Ш–Њ–∞–љ–љ, 18:36). –Я–Њ–і–Њ–±–Є–µ —Ж–∞—А—Б—В–≤–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є—В—З–µ–є –Њ —Б–µ—П—В–µ–ї–µ (–Ь–∞—В—Д., 13:24, —В–∞–Ї–ґ–µ –Ь–∞—В—Д. 13:45; 18:23; 22:2). –Я–∞–њ–Є—А—Г—Б–љ—Л–є –Њ—В—А—Л–≤–Њ–Ї –Є–Ј –Ю–Ї—Б–Є—А–Є–љ—Е–∞ –≥–ї–∞—Б–Є—В: ¬ЂвА¶–¶–∞—А—Б—В–≤–Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–µ вАФ –≤–љ—Г—В—А–Є –≤–∞—Б, –Є –Ї—В–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–µ—В —Б–µ–±—П, —В–Њ—В –љ–∞–є–і–µ—В –µ–≥–Њ. –Я–Њ–Ј–љ–∞–є—В–µ —Б–µ–±—П¬ї.
4) –°–Љ. –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є—П –Њ –•—А–Є—Б—В–µ –Ї–∞–Ї –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–µ –≤ ¬Ђ–Я–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ–≥–Љ–∞—В–∞ –Њ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–µ¬ї
5) ¬ЂIn anima, non in corpore impressus sit imaginis conditoris character¬ї (¬Ђ–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ –≤ –і—Г—И–µ, –љ–µ –≤ —В–µ–ї–µ¬ї)
6) In Lucam homilia, VIII (Migne, P.O., vol.13, col.1820): ¬ЂSi considerem Dominum Salvatorem imaginem esse invisibilis Dei, et videam animam meam factam ad imaginem conditoris, ut imago esset imaginis: neque enim anima mea speciliter imago est Dei, sed ad similitudinem imaginis prioris est¬ї (¬Ђ–Х—Б–ї–Є —П —Г—З—В—Г, —З—В–Њ –У–Њ—Б–њ–Њ–і—М –Є –°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –С–Њ–≥–∞, —В–Њ —Г–≤–Є–ґ—Г, —З—В–Њ –і—Г—И–∞ –Љ–Њ—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г –Є –њ–Њ–і–Њ–±–Є—О –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—П, –µ—Б—В—М –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–±—А–∞–Ј –Њ–±—А–∞–Ј–∞; –Є–±–Њ –Љ–Њ—П –і—Г—И–∞ вАФ –љ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –С–Њ–≥–∞, –љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –љ–∞–њ–Њ–і–Њ–±–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї)
7) De principiis, I, 8 (Migne, P.O., vol.11, col.156): ¬ЂSalvator figura est substantiae vel subsistentiae Dei¬ї (¬Ђ–°–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М –µ—Б—В—М —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –С–Њ–ґ—М–µ–≥–Њ¬ї). In Genesim homilia, I (Migne, P.O., vol.12, col.156): ¬ЂQuae est ergo alia imago Dei ad cuius imaginis similitudinem factus est homo, nisi Salvator noster, qui est primogenitus omnis creaturae¬ї (¬Ђ–Ш—В–∞–Ї, —З—В–Њ –ґ–µ –µ—Й—С –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –С–Њ–ґ–Є–є, –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г –Є –њ–Њ–і–Њ–±–Є—О –Ї–Њ–µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –µ—Б–ї–Є –љ–µ –љ–∞—И –°–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї—М, –њ–µ—А–≤–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є —Б—А–µ–і–Є –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Њ—В–≤–Њ—А—С–љ–љ–Њ–≥–Њ?¬ї)
8) (Migne, P.L. vol.332 col.626): ¬Ђ(Unigeni-tus)... tantummodo imago est, non ad imaginem¬ї (¬Ђ–Х–і–Є–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є... –Њ–і–Є–љ –ї–Є—И—М –µ—Б—В—М –Њ–±—А–∞–Ј, –∞ –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Г¬ї)
9) In Joannis Evangelium, Tract.LXXVIII, 3 (Migne, P.O., vol.36, col.629): ¬ЂChristus est Deus, anima rationalis et —Б–∞–≥–Њ¬ї (¬Ђ–•—А–Є—Б—В–Њ—Б –µ—Б—В—М –С–Њ–≥, —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–∞—П –і—Г—И–∞ –Є —В–µ–ї–Њ¬ї).
10) Contra Faustum, XXII, 38 (Migne, P.L. vol.42, col.424): ¬ЂEst enim et sancta Ecclesia Domino Jesu Christo in occulto uxor. Occulte quippe alque intus in absondito secreto spirituali anima humana inhaeret Verbo Dei, ut sint duo in came una¬ї. ¬Ђ–Ю—В–≤–µ—В –§–∞–≤—Б—В—Г –Ь–∞–љ–Є—Е–µ—О¬ї –°–≤. –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–∞: ¬Ђ–°–≤—П—В–∞—П –¶–µ—А–Ї–Њ–≤—М —В–∞–Ї–ґ–µ –µ—Б—В—М —В–∞–є–љ–∞—П —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –У–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ –Ш–Є—Б—Г—Б–∞ –•—А–Є—Б—В–∞. –Ш–±–Њ –≤—В–∞–є–љ–µ, –≤ —Б–Ї—А—Л—В—Л—Е –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞—Е –і—Г—Е–∞, –і—Г—И–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В—Б—П —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б—Г—В—М –і–≤–∞ –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—В–Є¬ї. –°–≤. –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ –Ј–і–µ—Б—М –Њ–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≠—Д–µ—Б. 5:31 : ¬Ђ–Я–Њ—Б–µ–Љ—Г –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—В—Ж–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Є –Љ–∞—В—М –Є –њ—А–Є–ї–µ–њ–Є—В—Б—П –Ї –ґ–µ–љ–µ —Б–≤–Њ–µ–є, –Є –±—Г–і—Г—В –і–≤–Њ–µ –Њ–і–љ–∞ –њ–ї–Њ—В—М¬ї.
11) Augustine, De Trinitate, XIV, 22 (Migne, P.O. vol.42, col.1053): ¬ЂReformamini in novitate mentis vostrae, ut incipiat ilia imago ab illo reformari, a quo formata est¬ї (¬Ђ–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–є—В–µ—Б—М –≤ –љ–Њ–≤–Є–Ј–љ–µ —Г–Љ–∞ –≤–∞—И–µ–≥–Њ, –і–∞–±—Л –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ —А–∞–љ–µ–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ¬ї)
12) –°–Љ. ¬ЂConcerning Mandala Symbolism¬ї, Part I, vol.9
13) –°–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П¬ї, ¬І. 323
14) –Ш—А–Є–љ–µ–є (Adversus haereses, II, 5) –њ–µ—А–µ–і–∞—С—В –≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ы–Њ–≥–Њ—Б–∞-–і–µ–Љ–Є—Г—А–≥–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –±—Л—В–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є, –Њ–љ ¬Ђ–Є–Ј–≤—С—А–≥ –µ—С –Є–Ј –Я–ї–µ—А–Њ–Љ—Л вАФ —В–Њ –µ—Б—В—М, –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї –µ—С –Њ—В –Ј–љ–∞–љ–Є—П¬ї. –Ш–±–Њ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –≤–љ–µ –њ–ї–µ—А–Њ–Љ—Л, –≤ —В–µ–љ–Є –Є –≤ –њ—Г—Б—В–Њ—В–µ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ—Г, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –љ–µ –Њ—В –≠–Њ–љ–Њ–≤ –њ–ї–µ—А–Њ–Љ—Л, –љ–Њ –Њ—В –Љ–∞—В–µ—А–Є, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П –≤–љ–µ –Є—Е. –Ю–љ–∞, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, —А–Њ–і–Є–ї–∞ –•—А–Є—Б—В–∞ ¬Ђ–љ–µ –±–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —В–µ–љ–Є¬ї. –Э–Њ —В–Њ—В, ¬Ђ–±—Г–і—Г—З–Є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–Њ–є¬ї, –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–ї —В–µ–љ—М –Є –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Я–ї–µ—А–Њ–Љ—Г, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Љ–∞—В—М, ¬Ђ–±—Г–і—Г—З–Є –Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —В–µ–љ–Є –Є –ї–Є—И—С–љ–љ–Њ–є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є¬ї, —А–Њ–і–Є–ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ф–µ–Љ–Є—Г—А–≥–∞ –Є –Я–∞–љ—В–Њ–Ї—А–∞—В–Њ—А–∞ –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞¬ї. –Э–Њ —В–µ–љ—М, –ї–µ–ґ–∞—Й–∞—П –љ–∞–і –Љ–Є—А–Њ–Љ вАФ —Н—В–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –Є–Ј –Х–≤–∞–љ–≥–µ–ї–Є–є, princeps huius mundi, —В–Њ –µ—Б—В—М –і—М—П–≤–Њ–ї
15) –°–Љ. R.Scharf, ¬ЂDie Gestalt des Satans im Alten Testament¬ї
16) –°–Љ. ¬Ђ–Ф—Г—Е –Ь–µ—А–Ї—Г—А–Є–є¬ї, ¬І. 271
17) –Ш—Г–і–µ–Њ-—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–µ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–µ –≥–љ–Њ—Б—В–Є–Ї–Њ-—Б–Є–љ–Ї—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ–∞—А—В–Є—О
18) –У–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–µ–Ї—В–∞, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ–Љ–∞—П –≤ Panarium adversus octoginta haereses –Є –≤ Michael Psellus, ¬Ђde Daemonibus du Pseudo-Psellos¬ї (Marsilius Ficinus, Auctores Platonici (Lamblichus de mysteriis Aegyptiorum), Venice, 1497)
19) –Ю—А–Є–≥–µ–љ, Contra Celsum , VI, 45: ¬ЂOpportuit autem ut alter illorum extremorum isque optimus appellaretur Dei filius propter suam excellentiam ; alter vero ipsi ex diametro oppositus , mali daemonis , Satanae diabolique filius diceretur¬ї (¬Ђ–Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В–µ–є, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞–Є–ї—Г—З—И–∞—П, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –°—Л–љ–Њ–Љ –С–Њ–ґ—М–Є–Љ –Ј–∞ —Б–≤–Њ—С –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ, –∞ –≤—В–Њ—А–∞—П вАФ –і–Є–∞–Љ–µ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–∞—П вАФ —Б—Л–љ–Њ–Љ –Ј–ї–Њ–≥–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ–∞, –°–∞—В–∞–љ—Л –Є –і–Є–∞–≤–Њ–ї–∞¬ї). –Я—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –і–∞–ґ–µ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–Є–≤–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞: ¬ЂUbi quid malum est... ibi necessario bonum esse malo contrarium ... Alterum ex altero sequitur: proinde aut utrumque tollendum est negandumque bona et mala esse; aut admisso altero maximeque malo, bonum quoque admissum oportet¬ї. (¬Ђ–У–і–µ –µ—Б—В—М –љ–µ–Ї–Њ–µ –Ј–ї–Њ... —В–∞–Љ –њ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –Є –і–Њ–±—А–Њ, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Ј–ї—Г... –Ю–і–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ; –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Є–ї–Є –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М –Є —В–Њ, –Є –і—А—Г–≥–Њ–µ, –Є –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –і–Њ–±—А–∞, —В–∞–Ї –Є –Ј–ї–∞, вАФ –Є–ї–Є –ґ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–ї–∞, –Љ—Л —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–Њ–±—А–∞¬ї. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–Љ—Г —З—С—В–Ї–Њ–Љ—Г –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Ю—А–Є–≥–µ–љ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±–Њ–є—В–Є—Б—М –±–µ–Ј –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–°–Є–ї—Л, –Я—А–µ—Б—В–Њ–ї—Л –Є –У–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї –Є –і–∞–ї–µ–µ –≤–љ–Є–Ј, –і–Њ –Ј–ї—Л—Е –і—Г—Е–Њ–≤ –Є –љ–µ—З–Є—Б—В—Л—Е –і–µ–Љ–Њ–љ–Њ–≤, –≤—Б–µ ¬Ђ–љ–µ –Є–Љ–µ—О—В —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –≤ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ¬ї –Є —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –і—Г—А–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –≤—Л–±—А–∞–ї–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ –Ј–ї–∞ no —Б–≤–Њ–µ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–µ (De principiis, VIII, 4; Migne, P.O. vol.11, col.179). –Ю—А–Є–≥–µ–љ —Г–ґ–µ, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –С–Њ–≥–∞ –Ї–∞–Ї Summum Bonum (¬Ђ–Т—Л—Б—И–µ–µ –С–ї–∞–≥–Њ" (–ї–∞—В.)) –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –ї–Є—И–∞—В—М –Ј–ї–Њ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є. –Ю–љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –Ї –Р–≤–≥—Г—Б—В–Є–љ–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є privatio boni, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В ¬ЂCertum namque est malum esse bono carere¬ї (¬Ђ–Ш–±–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –±—Л—В—М –Ј–ї—Л–Љ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –±—Л—В—М –ї–Є—И—С–љ–љ—Л–Љ –і–Њ–±—А–∞¬ї). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б–µ–љ—В–µ–љ—Ж–Є–Є –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П ¬ЂRecedere autem a bomo, non aliud est quam effici in malo¬ї (¬Ђ–Ю—В–Њ–є—В–Є –Њ—В –і–Њ–±—А–∞ –µ—Б—В—М –љ–µ —З—В–Њ –Є–љ–Њ–µ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≤–Њ –Ј–ї–µ¬ї). –≠—В–Њ —П—Б–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–Є—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –і–Њ–±—А–Њ –Є –Ј–ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—О—Б–∞ –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є.
20) –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–Є—А—Б–Ї–∞—П —В—М–Љ–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Є–Ј-–Ј–∞ —В–µ–љ–Є, –Њ—В–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–±–µ—Б–љ—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ.
21) –Т –Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –І–µ—В–≤—С—А—В–Њ–≥–Њ –Ы–∞—В–µ—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ—А–∞ —З–Є—В–∞–µ–Љ: ¬Ђ–Ш–±–Њ –і—М—П–≤–Њ–ї –Є –њ—А–Њ—З–Є–µ –і–µ–Љ–Њ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ—Л –С–Њ–≥–Њ–Љ –і–Њ–±—А—Л–Љ–Є –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –љ–Њ —Б—В–∞–ї–Є –Ј–ї—Л–Љ–Є –њ–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—О¬ї
22) –Ц–µ–љ—Б–Ї–∞—П, –Є–ї–Є —Б–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П, —В—А–Є–∞–і–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Є–Ј e p i q o u m i a (–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ), o r g h (–≥–љ–µ–≤) –Є l u p h (–њ–µ—З–∞–ї—М); –Љ—Г–ґ—Б–Ї–∞—П вАФ –Є–Ј l o g i s m o V (—А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ), g n w s i V (–Ј–љ–∞–љ–Є–µ) –Є f o b o V (—Б—В—А–∞—Е). –°–Љ. —В—А–Є–∞–і—Г —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є –≤ ¬Ђ–§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –і—Г—Е–∞ –≤ —Б–Ї–∞–Ј–Ї–∞—Е¬ї, ¬І. 425
23) –Э–∞–Љ—С–Ї –љ–∞ –Є—Б—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–≤–µ–љ—Ж–µ–≤ –≤ –Х–≥–Є–њ—В–µ
24) ¬ЂAkathriel¬ї вАФ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј ktr = keiner (¬Ђ—В—А–Њ–љ¬ї) –Є el вАФ –Є–Љ–µ–љ–Є –С–Њ–≥–∞
25) –Ь–Њ–є —Г—З—С–љ—Л–є –і—А—Г–≥ Victor White –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е Dominican Studies –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞—И—С–ї —Г –Љ–µ–љ—П —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б—В–≤—Г. –ѓ –љ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—Б—М –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є, —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–∞—П –ґ–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –µ—О; –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, –Љ–љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–њ—А–Њ—Б–Є—В—М: —З—В–Њ –љ–∞–Љ –і–µ–ї–∞—В—М —Б –∞–і–Њ–Љ, –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –і—М—П–≤–Њ–ї–Њ–Љ, –µ—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –≤–µ—З–љ—Л? –Ґ–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–љ–Є вАФ –љ–Є—З—В–Њ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –і–Њ–≥–Љ–∞—В–Њ–Љ –Њ –≤–µ—З–љ–Њ–Љ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є? –Х—Б–ї–Є –ґ–µ –Њ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є–Ј —З–µ–≥–Њ-—В–Њ, —Н—В–Њ –љ–µ—З—В–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Њ–±—А–Њ–Љ. –У–і–µ –ґ–µ –Ј–і–µ—Б—М –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞? –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ, –Љ–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –±—Л –Ј–љ–∞—В—М, —Б –Ї–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В—М—О —П –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—О –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є вАФ —Н—В–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—Е–µ—В–Є–њ–∞, –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–±–Њ–є complexio oppositorum, вАФ (¬Ђ–њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї, (–ї–∞—В.)) –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–љ—П—В—М, —З—В–Њ –Љ–Њ–Є —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А—П–Љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г.
26) –Т—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –ґ–µ, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Л–ї –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –µ—С –Є–ї–ї—О–Ј–Њ—А–љ—Л–Љ —Б—Г–±—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–Љ. –ѓ –Љ–Њ–≥—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—Б—П —Б —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –Ј—А–µ–љ–Є—П, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ—П—В—М –µ—С –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї—А–Є—В–Є—Ж–Є–Ј–Љ, –љ–Њ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –µ—С –њ—А–µ—В–µ–љ–Ј–Є–є —Б—Г–і–Є—В—М –Њ –і–Њ–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞—Е. –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М; –Ї–∞–Ї –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ, –Њ–љ –±—Л–ї —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М—О. –≠—В–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–∞, –Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ вАФ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–Љ вАФ –Ј–ї–Њ –±—Л–ї–Њ privatio boni. –Т –ї—О–±–Њ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Ж–µ–ї—М–љ–Њ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З—В–Њ –Є —Б–∞–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ъ—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—И–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–≤–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є? –Ю–і–љ–Њ –ї–Є—И—М –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В –µ—С —Б–∞–Љ–Њ–є.
27) –Ґ–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–љ–∞—П –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —Б–≤–µ—В–∞ –њ–Њ–і–і–∞–µ—В—Б—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≤–Є–і–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤ –Є –≤–Њ–ї–љ, –Є —З–∞—Б—В–Є—Ж.
28) –°–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П¬ї ¬І. 323 –Є ¬Ђ–Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –ѓ –Є –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ¬ї, ¬І. 398
29) –°–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П " ¬І. 334 –Є ¬ЂPsychology of the Transference¬ї, ¬І. 457
30) –≠—В–Њ —Б–ї–Њ–≤–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–µ –Њ –Ї—А–∞—В–µ—А–µ —Г –Ч–Њ—Б–Є–Љ—Л вАФ ¬Ђ–≤–Њ–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ –Ї —А–Њ–і—Г —В–≤–Њ–µ–Љ—Г¬ї.
31) –Ч–і–µ—Б—М —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤ –Њ –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ–µ horos y –≤–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ–Є–∞–љ, –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Ш—А–Є–љ–µ–µ–Љ. Horos (¬Ђ–≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞¬ї) –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є ¬Ђ—Б–Є–ї—Г¬ї –Є–ї–Є –±–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ–µ –•—А–Є—Б—В—Г –Є–ї–Є –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –µ—Б—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ—Л: o e r o q e t h V (¬Ђ—Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М –≥—А–∞–љ–Є—Ж¬ї), m e t a g o g e u (¬Ђ–њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—П—Й–Є–є —З–µ—А–µ–Ј –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л¬ї), k a r p i s i h (¬Ђ–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М¬ї), l u t r w t h (¬Ђ–≤–Њ–Ј–і–∞—О—Й–Є–є¬ї), s t u r o V (¬Ђ–Ї—А–µ—Б—В¬ї). –Т —Н—В–Њ–Љ —Б–≤–Њ—С–Љ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ –Њ–љ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –•—А–Є—Б—В—Г, вАФ –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Њ–њ–Њ—А–∞ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, —В–Њ, —З—В–Њ —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г–µ—В –µ—С. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –°–Њ—Д–Є—П –±—Л–ї–∞ ¬Ђ–±–µ—Б—Д–Њ—А–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞—А–Њ–і—Л—И–µ–Љ, –•—А–Є—Б—В–Њ—Б –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї –µ—С, —А–∞—Б—В—П–љ—Г–ї –µ—С —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ъ—А–µ—Б—В–Њ–Љ –Є –і–∞–ї –µ–є —Д–Њ—А–Љ—Г —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Є–ї–Њ–є¬ї, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Њ–љ–∞ —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–±—А–µ–ї–∞ —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О. –Ю–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–є ¬Ђ–љ–∞–Љ—С–Ї –љ–∞ –±–µ—Б—Б–Љ–µ—А—В–Є–µ¬ї. –Ш–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –Ъ—А–µ—Б—В–∞ —Б Horos, –Є–ї–Є —Б –•—А–Є—Б—В–Њ–Љ. –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —В–µ–Ї—Б—В–∞; –і–∞–љ–љ—Л–є –Њ–±—А–∞–Ј –Љ—Л –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г –Я–∞—Г–ї–Є–љ–∞ –Є–Ј –Э–Њ–ї—Л: ¬Ђ...regnare deum super omnia Christum, qui cruce dispensa per quattuor extima ligni quattuor adtingit dimensum partibus orbem, ut trahat ad uitam populos ex omnibus oris¬ї. (¬Ђ–Т—Б–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В –±–Њ–≥ –•—А–Є—Б—В–Њ—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–≥–Њ –Ї—А–µ—Б—В–∞ —З–µ—В—Л—А—М–Љ—П –Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –і—А–µ–≤–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В —З–µ—В—Л—А—С—Е —З–∞—Б—В–µ–є —Б–≤–µ—В–∞, –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞—П –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–∞—А–Њ–і—Л –≤—Б–µ—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –≤ –Љ–Є—А–µ¬ї.)
32) –Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј—А–µ—З–µ–љ–Є–є —Б–Љ.: Quispel's ¬ЂPhilo und die altchristliche H√§resie¬ї, –≥–і–µ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П —В–∞–Ї–∞—П —Ж–Є—В–∞—В–∞ –Є–Ј –Ш—А–Є–љ–µ—П: ¬ЂId quod extra et quod intus dicere eos secundum agritionem et ignorantiam, sed non secundum localem sententiam¬ї (¬Ђ–Ю –≤–љ–µ—И–љ–µ–Љ –Є –Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ –Њ–љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –љ–µ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –∞ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Ј–љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ–Ј–љ–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ¬ї). –Э–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –Ј–∞ —Н—В–Є–Љ —Б–µ–љ—В–µ–љ—Ж–Є—О вАФ ¬Ђ–Э–Њ –≤ –Я–ї–µ—А–Њ–Љ–µ, –Є–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–Љ–µ—Й–∞–µ—В—Б—П –Ю—В—Ж–Њ–Љ, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤—Б—С —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–µ –і–µ–Љ–Є—Г—А–≥–Њ–Љ –Є–ї–Є –∞–љ–≥–µ–ї–∞–Љ–Є, –≤–Љ–µ—Й–∞–µ–Љ–Њ–µ –љ–µ–≤—Л—А–∞–Ј–Є–Љ—Л–Љ –≤–µ–ї–Є—З–Є–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Ж–µ–љ—В—А –≤ –Ї—А—Г–≥–µ¬ї, вАФ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –±–µ—Б—Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ. –Т–Ј–≥–ї—П–і—Л –Ъ–≤–Є—Б–њ–µ–ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є—О –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В —В–Њ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—Ж–Є—П –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ–Њ–≥–Њ –њ—Б–Є—Е–Є–Ї–Є, –Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М —Д–∞–Ї—В ¬Ђ–љ–µ—А–µ–∞–ї—М–љ—Л–Љ¬ї –ї–Є—И—М –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ ¬Ђ–њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є¬ї. –Я—Б–Є—Е–µ –µ—Б—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О.
33) –°–Љ. ¬Ђ–Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є—П¬ї ¬І. 52 –Є ¬ЂA Study in the Process of Individuation¬ї, ¬І. 542, 550, 581
34) а§Ж১а•Нু৮а•Н (—Б–∞–љ—Б–Ї—А.) вАФ ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М¬ї, ¬Ђ–і—Г—Е¬ї, ¬Ђ–≤—Л—Б—И–µ–µ –ѓ¬ї вАФ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–Њ–љ—П—В–Є–є –Є–љ–і—Г–Є–Ј–Љ–∞: –≤–µ—З–љ–∞—П, –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–∞—П –і—Г—Е–Њ–≤–љ–∞—П —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В—М, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В, –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—О—Й–Є–є —Б–≤–Њ—С —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –і–ї—П –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ ¬Ђ–ѓ¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –≤—Б–µ—Е –ґ–Є–≤—Л—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ ¬Ђ–њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Ј–љ–∞–µ—В —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Р—В–Љ–∞¬ї вАФ ¬Ђ—П –љ–µ —Н—В–Њ, —П –Ґ–Ю¬ї, ¬Ђ—П –µ—Б—В—М –∞–±—Б–Њ–ї—О—В, –Є —П —Н—В–Њ –Ј–љ–∞—О¬ї вАФ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В (—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї) –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—С—В —Б–≤–Њ—С —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤—Л—Б—И–µ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞, ¬Ђ–∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П¬ї, –Р—В–Љ–∞–љ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–Љ, ¬Ђ–∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ—Л–Љ –±—Л—В–Є–µ–Љ¬ї вАФ –С—А–∞—Е–Љ–∞–љ–Њ–Љ, –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї—П—П—Б—М —Б –љ–Є–Љ.
–Р–љ–љ–∞ –°—В–∞—А–Њ–і–≤–Њ—А—Ж–µ–≤–∞
–Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞ –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А—Г–є—В–µ—Б—М —З—В–Њ–±—Л —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б—Б—Л–ї–Ї—Г
–Ь–Ю–Щ –Ъ–Р–С–Ш–Э–Х–Ґ viewforum.php?f=1313
–°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є: 3
• –°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ 1 –Є–Ј 1
–Т–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –Ѓ–љ–≥–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ
–Ъ—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞ —Д–Њ—А—Г–Љ–µ
–°–µ–є—З–∞—Б —Н—В–Њ—В —Д–Њ—А—Г–Љ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В: –љ–µ—В –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –≥–Њ—Б—В–Є: 1